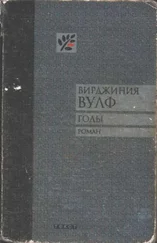Увидела правду. Вот она, правда — эта гостиная и эта Мейбл, а другая Мейбл — выдумка. Тесная комнатенка мисс Милан была в самом деле ужасно жаркая, затхлая, обшарпанная. Пропахла платьями и капустой; и все же, когда мисс Милан сунула ей в руку зеркало и она оглядела себя в новом, уже готовом платье, у нее сердце зашлось от удивительного блаженства. Залитая светом, она заново явилась на свет. Избавясь от забот и морщин, она стала такой, какой себе мечталась, — красивой женщиной. Секунду, не больше (больше она не решилась, мисс Милан хотела определить длину), обрамленное резным красным деревом, глядело на нее серебристо-белое, таинственно улыбающееся, прелестное созданье — ее суть, душа; и не только из-за тщеславия и самовлюбленности она почла ее доброй, нежной и настоящей. Мисс Милан говорила, что длиннее делать не стоит; вернее, говорила мисс Милан, морща лоб, призывая на помощь все свое соображение, надо, пожалуй, подкоротить; и вдруг Мейбл поняла, честное слово, что она любит мисс Милан, любит мисс Милан гораздо, гораздо больше, чем всех прочих, и она чуть не плакала от жалости, глядя, как мисс Милан ползает у ее ног, пучком закусив булавки, покраснев и выкатывая глаза, — чуть не плакала оттого, что один человек делает это ради другого, и вдруг ее осенило, что все-все просто люди, и она вот идет на прием, а мисс Милан укрывает клетку кенаря на ночь салфеточкой и дает ему клевать конопляное семечко прямо у нее изо рта, и от этих мыслей про то, как много в человеке покорности и терпения и какими жалкими, бедными, убогими радостями может довольствоваться человек, ей на глаза навернулись слезы.
И вот все пропало. Платье, комната, любовь, жалость, зеркало в резной раме, кенарь в клетке — все пропало, и она стояла в углу гостиной миссис Дэллоуэй, вернувшись к действительности, испытывая адские муки.
Но до чего же глупо, мелкотравчато, ничтожно, и в ее-то годы, имея двоих детей, так зависеть от чужого мнения, пора иметь собственные принципы, научиться говорить, как все: «Есть же Шекспир! Есть смерть! Мы, в сущности, ничтожные мошки» — или что там еще принято говорить.
Она смело глянула в зеркало; клевками пальцев вспушила шелк на левом плече; и пустилась в плавание по гостиной под градом копий, пронзающих ее желтое платье. Но вместо стервозности или трагизма, какие напустила бы тут на себя Роза Шоу — Роза, та бы просто Боадицеей плыла [3], — на лице у нее были написаны глупость и загнанность, она просеменила по гостиной, как школьница, ссутулясь, чуть не ползком, как побитая дворняга, и уставилась на картину, гравюру. Будто на приемы ходят картинами любоваться! Всем и каждому было ясно, зачем это ей — чтобы скрыть унижение, скрыть свой позор.
«Ну вот муха и в блюдце, — сказала она себе. — На самой середке и вылезти не может, и молоко, — думала она, уперев взгляд в картину, — залепило ей крылышки».
— Ужасно старомодно, — сказала она Чарльзу Бэрту, заставляя его остановиться (чем, конечно, его возмутила) на пути к кому-то еще.
Она имела в виду или ей хотелось думать, что она имела в виду картину, а не свое платье. И одно лишь доброе слово, одно дружеское слово Чарльза все бы могло изменить. Скажи он только: «Мейбл, вы сегодня очаровательны», и вся бы жизнь ее стала другая. Но ведь и ей бы самой тогда надо было быть прямой и правдивой. Чарльз, разумеется, ничего подобного не сказал. Редкостный злюка. Вечно тебя видит насквозь, особенно когда себя чувствуешь совсем уж мелкой, ничтожной дурой.
— У Мейбл новое платье! — сказал он, и бедную муху снесло на середку блюдца. Ей-богу, ему бы даже хотелось, чтоб она утонула. В нем нет истинной доброты, нет сердца, одна светскость, мисс Милан куда искренней, куда добрей. Надо только раз и навсегда зарубить это себе на носу. «Почему, — спрашивала она себя, чересчур резко ответив Чарльзу, показав, что она не в себе, „в растрепанных чувствах“, как он выразился („В растрепанных чувствах?“ — и отправился над ней потешаться с какой-то дамой в углу), — почему, — спрашивала она себя, — я не могу всегда думать одинаково, зарубить себе на носу, что права мисс Милан, а не Чарльз, помнить про кенаря, и любовь, и жалость и не терзаться страшными муками, входя в переполненную гостиную? А все ее противный, слабый, неустойчивый характер — вечно она пасует в решительную минуту, и она не способна всерьез увлечься конхиологией, этимологией, ботаникой, археологией, разрезать на части клубни картофеля и следить за его плодоносностью, как, например, Мери Деннис, как, например, Вайолет Сэрль.
Читать дальше