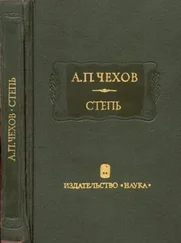– Глядите, глядите! – затолкал меня сосед. – Видите того брюнета, что садится на извозчика? Это известный скороход Кинг!
И весь вагон, захлебываясь, заговорил о скороходах, занимавших тогда московские умы.
Много и других примеров я мог бы привести вам, но, полагаю, и этих довольно. Теперь допустим, что я относительно себя заблуждаюсь, что я хвастунишка и бездарность, но, кроме себя, я мог бы указать вам на множество своих современников, людей замечательных по талантам и трудолюбию, но умерших в неизвестности. Все эти русские мореплаватели, химики, физики, механики, сельские хозяева – популярны ли они? Известны ли нашей образованной массе русские художники, скульпторы, литературные люди? Иная старая литературная собака, рабочая и талантливая, тридцать три года обивает редакционные пороги, исписывает черт знает сколько бумаги, раз двадцать судится за диффамацию, а все-таки не шагает дальше своего муравейника! Назовите мне хоть одного корифея нашей литературы, который стал бы известен раньше, чем не прошла по земле слава, что он убит на дуэли, сошел с ума, пошел в ссылку, нечисто играет в карты!
Пассажир первого класса так увлекся, что выронил изо рта сигару и приподнялся.
– Да-с, – продолжил он свирепо, – и в параллель этим людям я приведу вам сотни всякого рода певичек, акробатов и шутов, известных даже грудным младенцами. Да-с!
Скрипнула дверь, пахнули сквозняки и в вагон вошла личность угрюмого вида, в крылатке, в цилиндре и синих очках. Личность оглядела места, нахмурилась и прошла дальше.
– Знаете, кто это? – послышался робкий шепот из далекого угла вагона. – Это N. N., известный тульский шулер, привлеченный к суду по делу Y-го банка.
– Вот вам! – засмеялся пассажир первого класса. – Тульского шулера знает, а спросите его, знает ли он Семирадского, Чайковского или философа Соловьева, так он вам башкой замотает… Свинство!
Прошло минуты три в молчании.
– Позвольте вас спросить в свою очередь, – робко закашлял vis-a-vis, – вам известна фамилия Пушкова?
– Пушкова? Гм!.. Пушкова… Нет, не знаю!
– Это моя фамилия… – проговорил vis-a-vis, конфузясь. – Стало быть, не знаете? А я уже тридцать пять лет состою профессором одного из русских университетов… член Академии наук-с… неоднократно печатался…
Пассажир первого класса и vis-a-vis переглянулись и принялись хохотать.
Время шло к ночи. Дьячок Савелий Гыкин лежал у себя в церковной сторожке на громадной постели и не спал, хотя всегда имел обыкновение засыпать в одно время с курами. Из одного края засаленного, сшитого из разноцветных ситцевых лоскутьев одеяла глядели его рыжие жесткие волосы, из-под другого торчали большие, давно не мытые ноги. Он слушал… Его сторожка врезывалась в ограду, и единственное окно ее выходило в поле. А в поле была сущая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей погибели заварилась в природе каша, но судя по неумолкаемому, зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто. Какая-то побудительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной крыше, злобно стучала кулаками по окну, метала и рвала, а что-то побежденное выло и плакало… Жалобный плач слышался то за окном, то над крышей, то в печке. В нем звучал не призыв на помощь, а тоска, сознание, что уже поздно, нет спасения. Снежные сугробы подернулись тонкой льдяной корой; на них и на деревьях дрожали слезы, по дорогам и тропинкам разливалась темная жижица из грязи и таявшего снега. Одним словом, на земле была оттепель, но небо, сквозь темную ночь, не видело этого и что есть силы сыпало на таявшую землю хлопья нового снега. А ветер гулял, как пьяный… Он не давал этому снегу ложиться на землю и кружил его в потемках, как хотел.

Гыкин прислушивался к этой музыке и хмурился. Дело в том, что он знал, или по крайней мере догадывался, к чему клонилась вся эта возня за окном и чьих рук было это дело.
– Я знаю! – бормотал он, грозя кому-то под одеялом пальцем. – Я все знаю!
У окна, на табурете, сидела дьячиха Раиса Ниловна. Жестяная лампочка, стоявшая на другом табурете, словно робея и не веря в свои силы, лила жиденький, мелькающий свет на ее широкие плечи, красивые, аппетитные рельефы тела, на толстую косу, которая касалась земли. Дьячиха шила из грубого рядна мешки. Руки ее быстро двигались, все же тело, выражение глаз, брови, жирные губы, белая шея замерли, погруженные в однообразную, механическую работу, и, казалось, спали. Изредка только она поднимала голову, чтобы дать отдохнуть своей утомившейся шее, взглядывала мельком на окно, за которым бушевала метель, и опять сгибалась над рядном. Ни желаний, ни грусти, ни радости – ничего не выражало ее красивое лицо с вздернутым носом и ямками на щеках. Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он не бьет.
Читать дальше