Пить рюмками принято не было. Наливали до половины в гранёные стаканы и опрокидывали легко, как воду, подражая мужчинам. Копейкина никого не осуждала, винила во всём войну.
Она не употребляла спиртного вовсе потому, что, выпив, становилась, по её собственному определению, «полной дурой» и начинала петь. Петь громко. От её сильного голоса выли бездомные собаки и звенела стеклянная посуда.
У женщины не было слуха, но не петь в такие минуты она не могла. Это было сущее наваждение, волна необоримой силы, идущая откуда-то изнутри. Возможно, это заменяло ей бабий вой, копившийся годами где-то у неё внутри, кто знает? Впрочем, случалось такое с нею нечасто и всегда, как говорят, при веских основаниях.
Впервые она крепко выпила и неожиданно для себя самой вдруг запела в 44-м, когда принесли похоронку на её Копейкина, погибшего при освобождении Киева.
Подруги говорили: «Не верь, ошибки случаются часто!» Но она почему-то сразу поняла, почуяла сердцем: пришла беда! Да и не мог её Славка, имевший слабое зрение и с детства носивший очки, выжить на той страшной войне. Человек сугубо гражданский, освобождённый от строевой службы по зрению, уходил на фронт добровольцем.
На вокзале у эшелона она едва узнала мужа – так изменилась его внешность: в военном обмундировании с шинелью-скаткой через плечо, мешком сидевшей на его узких плечах гимнастёрке, с винтовкой и в пилотке. Как странно было видеть в его руках оружие! Вот книгу – другое дело!
Позже почему-то одна и та же глупая и навязчивая мысль всё время лезла ей в голову: «Успел ли Копейкин хоть раз выстрелить из своей винтовки по врагу?» Ей казалось нелепой само это предположение в отношении человека, который в своей жизни не обидел даже муравья!
Второй раз Эвелина запела по пьяному делу уже после войны, в голодном 47-м, когда в самом начале месяца «потеряла», как считала сама, не обвиняя никого, с кем ехала в набитом битком холодном трамвае, сразу все продуктовые карточки, которые выдавались на месяц вперёд.
Погибнуть ей и её маленькому сыну Вовке не дали соседи и сослуживцы, неожиданно взявшие шефство над ними. Ежедневно, по нескольку раз приходя в их дом, приносили кто хлеб, кто кашу, кто яблоко. У кого что было. А иногда и остывший за время пути борщ.
Женщине не нужно было объяснять, что значило оторвать в то голодное время лишний кусок хлеба от своей семьи…
Случались и другие, более мелкие истории – причины грустных песен, но о них как-то не помнилось.
А вот последний раз в памяти остался. Тот «песенный запой» произошёл с нею уже в конце пятидесятых, когда она совсем уж отчаялась покинуть с сынишкой угловую холодную комнату в опостылевшем дощатом бараке, получив очередной решительный отказ от железнодорожного начальства в квартире в готовом к сдаче, четвёртом по счёту ведомственном доме.
Словом, всё её «песенное творчество» было не от хорошей жизни, и Эля не хотела вспоминать то, что было с ним связано.
***
Вчера из-за аварии на узловой станции их состав отправили на переформирование, подцепив часть вагонов к другим поездам. А девчонок и её саму вернули по домам с попутными рейсами. Так что в пути она в этот раз была совсем недолго: чуть более четырёх суток.
Открывая ранним утром входную дверь в пустующую двухкомнатную квартиру на первом этаже, Эвелина очень хотела, чтобы случилось чудо и из своей комнаты выглянул сын, Володька. Она почти явственно услыхала его голос:
– Привет, ма! Как съездила?
Женщина даже зажмурила глаза от радостного ожидания.
Но… чуда не случилось. Её Володенька теперь далеко от неё. В Западной Сибири, на комсомольской стройке, куда он уехал со своими друзьями-сослуживцами сразу после демобилизации из армии.
Сын служил на Тихоокеанском флоте долгих четыре года. Время тянулось медленно, превратившись для женщины в настоящую пытку, в ожидание очередного коротенького письма. И вот, наконец, её роднулька вернулся!
Эвелина не находила себе места от радости и гордости за него, повзрослевшего, настоящего мужчину! А как шла ему флотская форма! На груди у сына горела медаль и знак «За дальний поход».
Каждое утро он делал зарядку во дворе, а потом обливался по пояс холодной водой, и от его разгорячённого тела шёл пар. А после он аккуратно и тщательно гладил брюки, добиваясь идеальной стрелки, чистил одёжной щёткой пиджак и драил до блеска, как на флоте, полуботинки чёрным гуталином.
Она не успела даже наглядеться на него, как вдруг сын объявил ей, что уезжает вновь. Теперь на сибирскую стройку!
Читать дальше
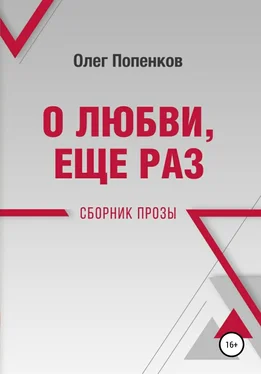




![Олег Арин - О любви, семье и государстве [Философско-социологический очерк]](/books/422193/oleg-arin-o-lyubvi-seme-i-gosudarstve-filosofsko-sociologicheskij-ocherk-thumb.webp)






