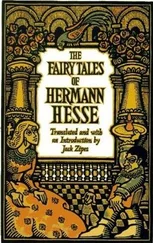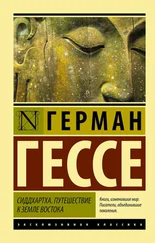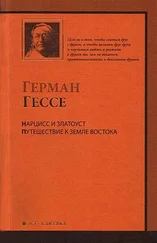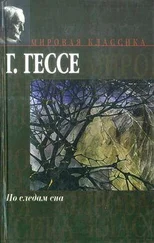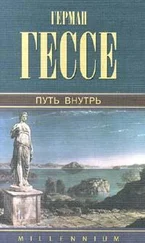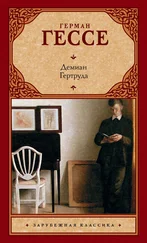Напротив, без предупреждения приехал сам Муот и всех нас испугал почти безудержной страстностью своей любви и своего недоверия. Гертруда, ничего не знавшая о состоявшейся переписке, была совершенно ошеломлена и подавлена приездом мужа, которого она никак не ожидала, и его прямо-таки злобным возбуждением. Произошла неприятная сцена, о которой я мало что мог узнать. Я знаю одно: Муот требовал от Гертруды, чтобы она вернулась с ним в Мюнхен. Она объявила, что готова последовать за ним, если это необходимо, но просила все-таки дать ей еще пожить у отца, она устала, и ей еще нужен покой. Тогда он стал укорять ее в том, что она хочет от него сбежать по наущению отца, ее кроткие объяснения только усугубили его недоверие, и в приступе гнева и горечи он дошел до такой глупости, что недолго думая прямо приказал ей к нему вернуться. Тут уж ее гордость взбунтовалась, она сохранила самообладание, но отказалась дальше его слушать и объявила, что теперь в любом случае останется здесь. За этой сценой на другое утро последовало нечто вроде примирения, и Муот, пристыженный и раскаявшийся, одобрял теперь все ее желания. После этого он уехал, не зайдя ко мне.
Когда я об этом услышал, то испугался и понял, что надвигается беда, которой я боялся с самого начала. После такой гадкой и глупой сцены, думал я, понадобится много времени, прежде чем она снова обретет ясность и мужество для возвращения к нему. А ему между тем грозит опасность одичать и, несмотря на всю его тоску, стать ей еще более чуждым. Он долго не выдержит одиночества в доме, где какое-то время был счастлив, придет в отчаяние, запьет, возможно, свяжется опять с другими женщинами, которые и без того за ним бегали.
Но пока было тихо. Муот написал Гертруде и еще раз просил прощения, она ответила и, полная сострадания и мягкости, призывала его к терпению. Я мало виделся с ней в это время. Иногда я делал попытку побудить ее спеть, но она всякий раз качала головой. Однако я много раз заставал ее за роялем.
Странно и неприятно мне было видеть эту красивую, гордую женщину, которую я находил всегда полной сил, жизнерадостности и внутреннего спокойствия, ныне запуганной и поколебленной в самой основе своего чувства. Иногда она заходила к моей матери, дружески расспрашивала о нашем житье-бытье, сидела недолгое время на сером диване рядом со старой женщиной и пыталась болтать, и у меня сердце разрывалось, когда я слушал ее и видел, каких усилий ей стоит выжать из себя улыбку. Мы старательно делали вид, будто ни я и никто из нас не знает о ее страдании или будто мы принимаем его за нервозность и физическую слабость. Я просто не в силах был смотреть ей в глаза — так отчетливо в них читалась невысказанная боль, о которой я не должен был знать. И мы разговаривали, жили, проходили друг мимо друга, словно все было как всегда, и все-таки друг друга стыдились и избегали! И посреди этого печального смятения чувств мною то и дело с внезапным лихорадочным пылом овладевало представление, что ее сердце больше не принадлежит ее мужу, оно свободно и теперь от меня зависит не потерять его снова и завоевать и укрыть на своей груди от всех бурь и страданий. Тогда я запирался у себя, играл пламенную, зазывающую музыку своей оперы, которую вдруг опять полюбил и стал понимать, лежал ночами, горя желанием и жаждой, и переживал все с улыбкой преодоленные муки юности и неутолимого вожделения еще раз, не менее тяжело, чем тогда, когда я впервые сгорал от любви к ней и подарил ей тот единственный, незабываемый поцелуй. Он опять пылал у меня на губах и за несколько часов спалил дотла мое многолетнее спокойствие и самоотречение.
Только в присутствии Гертруды затухало это пламя. Будь я даже настолько глуп и бесчестен, чтобы уступить своему желанию и, не считаясь с ее мужем и моим другом, домогаться взаимности, мне было бы стыдно под взглядом этой страдающей, нежной, упрямо затаившейся в своей боли женщины подходить к ней иначе, нежели с состраданием и бережной предупредительностью. К тому же, чем больше она страдала и, быть может, теряла надежду, тем становилась все более гордой и неприступной. Она как никогда прямо и гордо держала свою статную фигуру и темно-русую голову и не позволяла никому из нас ни малейшего движения, чтобы к ней приблизиться или разделить ее ношу.
Эти долгие недели безмолвия были, наверно, самыми тяжелыми в моей жизни. Здесь — Гертруда, близкая мне и все же недостижимая, пути к ней не было, ибо она хотела оставаться одна; там — Бригитта, о любви которой ко мне я знал и с которой у нас медленно завязывались приемлемые отношения после того, как мы долго избегали друг друга, и между всеми нами — моя старенькая мама, которая видела, как мы страдаем, и обо всем догадывалась, но не осмеливалась ничего сказать, поскольку сам я упорно молчал, а пока я не заговорю, она была не в силах сказать хоть слово о моем состоянии. Но самым худшим была убийственная необходимость на все это смотреть, бессильная убежденность в том, что мои ближайшие друзья губят себя, а я не вправе даже дать им понять, что я это знаю.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу