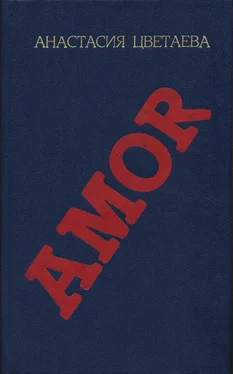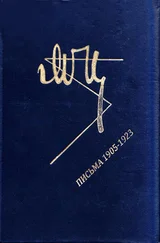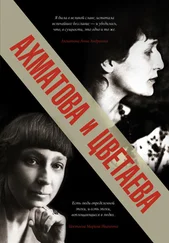– Простите меня, – говорит Евгений Евгеньевич вежливовластно, – я никак не возьму в толк…
– Господи, да неужели же непонятно? – раздражается Мориц. Он хватает из рук Евгения Евгеньевича синьку. Он уже не насмехается, как над Виктором, он сердится и слабеет. Нике мучительно смотреть на него: он похож сейчас на растерявшегося петуха. (Ослабей он ещё чуть–чуть – и она полюбит его – за слабость, на неудачу… Тою материнской нежностью, которая пуще – любви!) Но он не хочет слабеть, он упирается, оттягивает позицию – там, где она, видимо, уже сдана.
– Без "Господи", пожалуйста! – нагло–вежливо, очень спокойно, замечает Евгений Евгеньевич.
Отвращаясь от поведения Евгения Евгеньевича, Ника думает о Морице: неужели же эта грубость его – то, о чем ей говорил такими высокими словами – о маске грубости, надеваемой на себя, чтобы скрыть мягкосердие? Не–ет… О нет! Тут что‑то не то! Душевное ухо Ники слышит тут душевную фальшь. В большой душе Морица живёт ещё маленькая душа…
В этот миг Мориц оборачивается к ней:
– Ну, а вы, сударыня, что делаете сегодня?
В его тоне неслышно для других пролетает мотылек шутливости, и в его быстром взгляде, вбирающем в себя – все её сомнения, её боль, её осуждение, он рушит, как колпаком на ветру свечу – весь протест. Вся её сталь рассыпается брызгами ртути, речным песком… Она перед ним шелкова и тиха, – но посмотреть – не посмела.
Мориц хмурит лоб:
– Ах да, позвольте! У вас же там нелепица была какая‑то… давайте‑ка мне ведомость земляных работ! А то лучше‑ка вот что, – оборачивается он к вошедшему прорабу, – пока я тут с ней разберусь ("с ней!" режет слух Ники – у такого воспитанного человека…), зайди в новые бараки, сукины дети маляры белят одной известью без клея, без мыла – стены нельзя будет тронуть, вся одежда прахом пойдет!
Он говорит, а пальцы перебирают бумаги, выдёргивают нужную ведомость земработ. Прораб выходит.
– Вот это, – говорит Мориц, – можете вы мне объяснить это, миледи? Как это вас угораздило опять вкатить сюда коне–дни?
Взрыв всеобщего смеха. Она краснеет "как рак". Мориц смотрит ей в глаза бесстрастно и беспощадно; рассматривает, с усмешкой, её стыд. (Этот человек т а к не щадит другого? О, будь она проклята, ложь!)
– А тут вы опять наврали! – ведя свое грассирующее "р". – И с аппетитом, как пирожное – по Евтушевскому! А если хотите, то и по Малинину и Буренину: 9,20, помноженное на 44 д. сп., было все ж таки 404,80, – а у вас какая цифра стоит? Можете вы объяснить мне это?
Его низменные, дешёвого торжества интонации ползли по рукам, плечам, захватывали дыхание. А её глаза, к величайшему её ужасу, наполнились слезами – до самых краёв. Страх не того, что он эти слезы увидит, а что они сейчас упадут на цифры, страх позора ( его позора!), что он за это закричит на нее (не за слезы – кабы ещё за них! за цифры!)… Она отвертывается заводным движением; судорога тошнотворного страдания, их обоюдного безобразия друг перед другом, сознание непоправимости происходящего… Вдруг присев на корточки, точно она уронила что‑то, быстрым, ловким, грубым движением, движением детства, она успевает вытереть кулаком оба глаза.
– Что вы там делаете ? – раздраженно крикнул Мориц. – Я же вам объясняю]..
Она встала, точно её подняла пружина. Ей казалось, что она на десять лет старше.
– Я вас слушаю! – как через телефонную даль, сказала она учтиво. Что‑то лирическое, крылатое отрывало её от него, от комнаты и от горы – освобождение! Она снова была собой. Она не заметила, как Мориц кинул на стол бумаги:
– Все надо сделать заново! Пришлите мне!
Мориц вышел и кинул дверь. Но он тотчас вернулся. Он сказал повелительно:
– Где ваши черновые подсчеты? Следы! Следы… – взял в руки её работу. – Ведь если вы все сначала начнете – вы не кончите через шестидневку! Нет, нет, вот это что такое? Что?!
– Икс… – сказала, подернувшись корочкой льда, Ника.
– Что–о?.. Икс?! – повторил Мориц почти шепотом, до дна изумившись, – и он даже взглянул на Нику с интересом. – Позвольте, почему – икс ?
Но при взгляде на Нику его вопрос потерял остроту. Все в этой только что бывшей четкости стало – как когда дохнешь на стекло. Чего‑то в этом её взгляде – не на него, а мимо – не мог перенести он никак. Потому что взгляд её должен был быть гордым. А он был жалким. Но тон Ники был – нагл.
– Икс – это значит "неизвестное". По Евтушевскому! Этот неизвестный итог я должна была перемножить…
Читать дальше