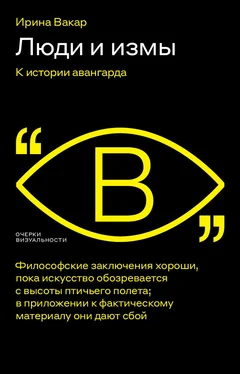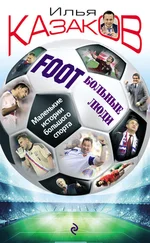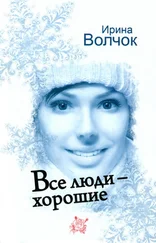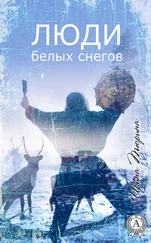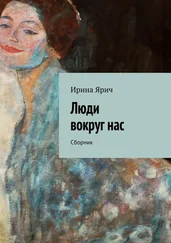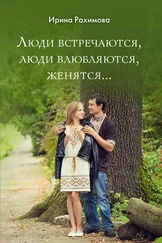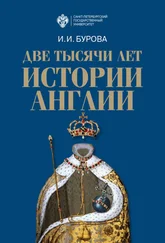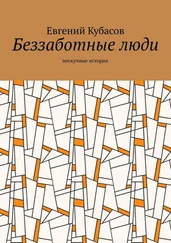Новые работы, написанные в 1928–1929 годах непосредственно перед выставкой, значительно превосходят ранние по уровню мастерства 62 62 Подробно об этом см.: Вакар И. А. «Красные крыши». С. 174–185.
. Малевич по-настоящему овладевает искусством живописи (а не цветописи, в которой он работал долгие годы): строит колорит на цветовых отношениях, увиденных в природе; пишет (рисует, лепит форму) кистью; наконец, что особенно важно, – передает ощущение реального пространства. Такого пространственно-свето-цветового прорыва не могли дать ни кубизм, ни супрематизм – его привнес в творческий арсенал Малевича именно импрессионизм. Без него, возможно, не был бы осуществлен синтез постсупрематизма.
Период «возвратного импрессионизма» был локальным и качественно неоднородным. Первые полотна Малевич создает в 1928 – начале 1929 года одновременно с картинами, имитирующими его раннекубистическую манеру («На сенокосе», ГТГ; «Марфа и Ванька», ГРМ; и др.). Вероятно, ряд пейзажей художник привез из Житомира, где летом 1929 года гостил у сестры. Весной 1930‐го в Святошине Малевич пишет односеансный этюд «Пейзаж под Киевом» (ГТГ) 63 63 См.: Жданко И. А. Встречи в Киеве и Москве // Малевич о себе. Т. 2. С. 407.
, и эту работу можно считать завершением периода импрессионизма. По качеству она сильно уступает его лучшим образцам («Весна – цветущий сад», ГТГ; «Цветущие яблони», ГРМ; обе – 1928–1929): здесь ощутима то ли усталость, то ли потеря интереса к выполнению уже решенной задачи. Хотя в начале 1930‐х Малевич продолжает писать этюды в широкой, размашистой манере, импрессионизм как концепция для него уже неактуален. Художник пытается освоить еще одну, чуждую ему живописную систему – натурализм 64 64 См.: Рождественский К. И. Малевич – это неисчерпаемая тема // Малевич о себе. Т. 2. С. 308–309.
(к таким попыткам, вероятно, следует отнести группу этюдов полей, выдержанных в унылой серо-охристой гамме). Но эти опыты находятся на периферии его интересов. Малевичу остается жить всего несколько лет, но за это время он создаст и самые глубокие «полуобразы» крестьянского цикла, и вариации на темы старых мастеров, и «метафизические» портреты.
Говоря об импрессионизме в его русском изводе, нельзя избежать упоминания основополагающих принципов этого искусства, ведь, причисляя художника к числу адептов направления, необходимо опираться на немногие, но точные критерии. Будем держать в уме, скажем, три пункта:
1) культ природы, преданность натуре, non fiction;
2) передача света и пространства с помощью цвета (а не светотени);
3) отношение к французскому первоисточнику (подражание, цитирование, диалог).
Поздний импрессионизм Малевича вполне отвечает двум первым требованиям. Что касается третьего, то он, как мне кажется, не имеет французских корней и в этом смысле совершенно своеобразен. Думается, художник осознанно выбирал мотивы, связанные с его юностью, – беленые домики Украины, не похожие ни на Подмосковье, ни тем более на Буживаль или Живерни. При этом Малевич прекрасно знал, а в эти годы, вероятно, и много думал о французах: он высоко ценил собрание ГМНЗИ, советовал ученикам ориентироваться на живопись Ренуара 65 65 Рождественский К. И. Малевич – это неисчерпаемая тема. С. 307.
и т. п.
Если теперь обратиться к творчеству Ларионова, то картина окажется еще более сложной, а генезис его «возвратного импрессионизма» —запутанным и неясным. По натуре Ларионов, импульсивный и непредсказуемый, не обладал целеустремленностью Малевича, и его путь был не столь последовательным и логичным. Но не только это делало такими разными их творческие индивидуальности и судьбы. Ларионов очень рано сформировался как живописец; по словам Д. В. Сарабьянова, «уже в ранние годы Ларионов был „взрослым“» 66 66 Сарабьянов Д. В. Русская живопись конца 1900‐х – начала 1910‐х годов. М., 1971. С. 100.
(хотя это очевидное преувеличение). В те годы, когда Малевич делал безуспешные попытки поступить в МУЖВЗ, Ларионов был избран в действительные члены парижского Осеннего салона, а Третьяковская галерея приобрела его картину. Отчасти это произошло в силу удивительного совпадения дарования молодого Ларионова, который, по словам Н. Н. Пунина, был импрессионистом по натуре и общей направленности, внутренней потребности искусства, которое, как говорил Малевич, «нас не спрашивает». Пунин причислял ларионовские полотна 1900‐х годов к лучшему в русской живописи 67 67 «Исключительные вещи – едва ли есть что-либо лучше этого за последние 15–20 лет». Цит. по: Ковалев А. Е. Михаил Ларионов в России. 1881–1915 гг. М., 2005. С. 297.
и в этой оценке был не одинок. Ни один из авангардистов не имел такой биографии – не пережил сознательного отказа от успешной, благополучной карьеры, чтобы получить непризнание и глумление; на этом почти героическом выборе во многом держалась репутация Ларионова как первого лидера авангардного движения.
Читать дальше