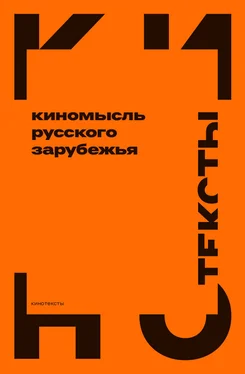Кино
Един[ственн]ый кино владеет движением видимым и невидимым (рост почвы, например); он ускоряет и замедляет, концентрирует, увеличивает, уменьшает, берет предметы целиком и частями; благодаря ему внучка видит бабушку грудным младенцем. Его феноменальная техника равна природе. Он вышвырнул холст, картон, дерево, клей и краски потому, что владеет трепетом природы; он поднимается над землей, опускается на дно моря в течение пяти секунд; он в пяти частях света, и молния не может угнаться за его бегом.
И, несмотря на все это, кино настоящего времени лишь часть того целого, которое рисуется в нашем воображении; это потому, что кино не имеет ни звука, ни формы, ни колорита; певица за экраном и оркестр лишь подчеркивают необходимость в «живом», раскраска фильмы – ремесло жалкого свойства.
«Предметность»
Певец и зритель находятся в соотношении непосредственном: певец поет, и его слушают. А вот между автором и читателем находится предмет – книга. Театр беспредметен (в известном смысле): театр и зритель. Кино «предметен»: автор – актер – фильм – зритель. Введение «предметности» в нашу жизнь следует рассматривать как завоевание цивилизации, один из ее показателей. На войне рука уступила место пуле, откуда-то посланной. Совершенствуют летательные аппараты без авиатора, танки без людей. Запрягается уже не человек, а его идея.
Когда явится «предмет» – синтез кино и театра, актерский профессионализм в смысле ежедневного «пахания Шекспира» исчезнет; актер должен сотворить, а повторить может кто-то другой – в данном случае какая-то новая комбинация фильмы, граммофона, стереоскопа и пр., одним словом:
Синтез
Конечно, граммофон, стереоскоп – это детский лепет. Но нужно помнить о человеческом гении. В ничтожный срок открыты радий, телеграф, телефон, мы летаем; трудно ли после всего этого создать какой-то новый предмет, который соединит в себе свойства фильмы с тем, что ему недостает (звук, форма, цвет)? Вот перспектива:
Театров нет. Дешевые аппараты, проникающие всюду, где люди живут вместе: города, села, деревни, фабрики, казармы, приюты, училища, шахты, базарные площади выписывают в исполнении музыкантов под управлением лучших дирижеров симфонические концерты. Они посредством «предмета» видят людей, они наслаждаются их исполнением. Они получают лучшими артистами разыгранный репертуар лучших старых и новых авторов. Они «выписывают» концерты, певиц, пианистов, скрипачей; они их слушают и видят…
Определенные пункты: массы авторов, актеров, лекторов, историков, поэтов; библиотеки, квартиры, где актер, наконец, оседлый, живя со своей семьей в развивающей его обстановке, читая, штудируя роль, медленно и вдумчиво работает над созданьем образа. Игра доведена до высшей степени правдивости (фильм разоблачает ложь!). Колоссальная потребность человечества создает все новые и новые массы актеров; лучшие актеры проникают одинаково в столицу и какое-нибудь село; создаются высочайшие требования, исчезает профессионализм и любительство – входит в жизнь настоящий актер.
Что же это?.. Жюль-Верновщина? О, конечно, нет! Жюль Верн уже позади действительности. Это неотвратимое будущее – синтетический театр!
Печатается по: Мир (Рига). 1923. № 1. 20 июля.
Александр Бакши КИНЕМАТОГРАФ И ИСКУССТВО
Лет десять–двенадцать тому назад считалось признаком хорошего тона, особенно в театрально-художественных кругах, изображать кинематограф как какое-то исчадие ада, угрожавшее затопить всю художественную культуру своим непрерывным и все расширявшимся потоком безобразия и пошлости. В те годы мне приходилось доказывать в английских и американских журналах, что так понимать кинематограф – значит с водою, безусловно, не первой чистоты и свежести, выплескивать также и ребенка 44 44 См., например: Bakshy A. The Cinematograph as Art // The Drama. 1916. № 22. Статья в переработанном виде вошла в сборник Бакши «Path of the Modern Russian Stage and other Essays» (1916), перевод этой версии включен в подготовленную Р. Янгировым подборку материалов «Театр и кинематограф: старые споры о главном» (Киноведческие записки. 1998. № 39. С. 23–32).
. А между тем в чертах ребенка, если присмотреться к нему поближе, уже тогда сквозило чрезвычайное своеобразие и благородство. На младенце как бы лежала печать Мнемозины и Зевса, свидетельствовавшая о кровном родстве с девятью древними сестрами – их дочерьми 45 45 Имеются в виду музы – Талия, Мельпомена, Терпсихора и др.
.
Читать дальше