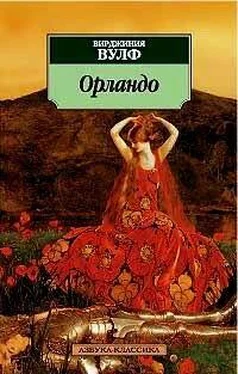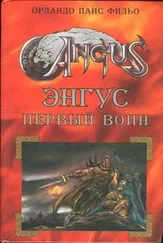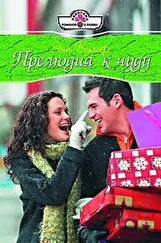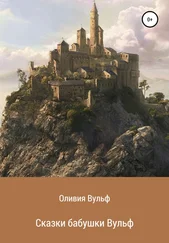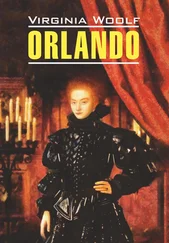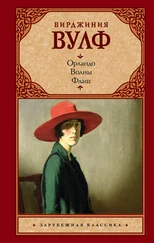Она могла бы ответить на эти доводы испытанным, хоть и окольным возражением, что, мол, цыгане сами ведут грубую и варварскую жизнь и за последние времена сами стали хороши. Но не подобные ли споры всегда вели к кровопролитиям и революциям? Еще и не из-за такого крушились города, а миллионы мучеников шли на плаху, лишь бы ни йоты не уступить от отстаиваемых истин. Нет в нашей груди страсти сильней, чем желание заставить другого думать так же, как думаем мы сами. Ничто так не отравляет счастье, так не приводит в ярость, как сознание, что другой ни в грош не ставит что-то для нас драгоценное. Виги и тори, консерваторы и лейбористы за что и бьются, как не за престиж? Не любовь к истине, но желание настоять на своем поднимает квартал на квартал, заставляет один приход мечтать о гибели другого. Каждый желает одержать верх. Собственное спокойствие, самоутверждение – важнее торжества истины и добродетели… но оставим-ка мы эти прописи историку, ему сподручней ими пользоваться, да и нудны они, кстати, как стоячая вода.
– Триста шестьдесят спален – это им плевать, – вздыхала Орландо.
– Закат дороже ей козьего гурта, – ворчали цыгане.
Орландо не знала, что делать. Уйти от них, снова стать послом? Нет уж, только не это! Но и вечно жить там, где нет ни бумаги, ни чернил, ни почтения к Тюдорам, ни уважения к тремстам спальням – тоже невозможно. Так рассуждала она однажды утром на горе Афон, пася своих коз. И тут Природа, которой она поклонялась, то ли выкинула шутку, то ли сотворила чудо, – опять-таки мнения тут расходятся, так что точно не известно. Орландо довольно безутешно вперила взор в кручу прямо перед собой. Лето было в разгаре; и если чему-то стоило уподоблять этот пейзаж, то уж сухой кости, овечьему скелету, гигантскому черепу, добела вылизанному тысячей шакалов. Жара палила немилосердно, а низкорослой смоковницы, под которой она укрылась, только на то и хватало, чтобы напечатлевать узор своей листвы на легком бурнусе Орландо.
Вдруг какая-то тень, хоть решительно нечему было ее отбрасывать, легла на лысый склон. Она быстро углублялась, и скоро зеленая лощина образовалась там, где только что белела голая скала. Лощина росла, ширилась на глазах у Орландо, и вот уже на склоне раскинулся зеленый парк. В парке мрел и волнился муравчатый луг; там и сям стояли дубы; грачи порхали по ветвям. Она видела, как из тени в тень переступали чинные олени, она слышала, как жужжал, гудел, журчал, плескался и вздыхал английский летний день. Она смотрела, зачарованная, и вот начал падать снег, и все, что только что было обтянуто желтым солнечным блеском, оделось в фиолетовые тени. Тяжелые телеги катили по дорогам, груженные бревнами, которые, она знала, распилят на топку; вот проступили крыши, коньки, башни и дворы ее родного дома. Снег все валил, и уже она слышала влажный шелест, с каким, соскальзывая с крыши, он падал на землю. Из тысяч труб взвивался дым. Все было отчетливо, ярко, она разглядела даже, как галка выклевывает из снега червяка. Потом мало-помалу фиолетовые тени сгустились и поглотили телеги, дороги, поглотили дом. Все скрылось. Ничего не осталось от зеленой лощины: на месте муравчатых лугов была раскаленная скала, будто добела вылизанная тысячей шакалов. И тогда Орландо разрыдалась, пошла в табор и объявила цыганам, что завтра же должна вернуться в Англию.
Она счастливо отделалась. Молодежь уже замышляла ее убить. Честь, утверждали они, того требует, ибо она думает иначе, чем они. Им, однако, было б жаль перерезать ей глотку, и они обрадовались известию о ее отъезде. Английский торговый корабль, как случаю было угодно, стоял уже в гавани, готовый воротиться в Англию; и, сорвав еще одну жемчужину со своего ожерелья, Орландо не только сумела заплатить за проезд, но разжилась и несколькими крупными банкнотами. Она бы с радостью подарила их цыганам. Но они, она знала, презирали богатство, и потому она ограничилась поцелуями, с ее стороны совершенно искренними.
На несколько гинеи, оставшихся от продажи десятой жемчужины из ожерелья, Орландо накупила себе всякой всячины по тогдашней моде и сидела на палубе «Влюбленной леди» в оснастке юной великосветской англичанки. Странно, и, однако же, это так – до сих пор она и думать не думала про свой пол. Возможно, турецкие шальвары уводили от него ее мысли; да и сами цыганки, за исключением двух-трех существенных пунктов, мало чем отличаются от цыган. Во всяком случае, лишь когда она ощутила прохладу шелка вокруг своих колен и капитан сверхучтиво предложил раскинуть ради нее на палубе навес, она со смятением осознала все выгоды и тяготы своего положения. Но смятение ее было, кажется, не совсем такого свойства, как следовало ожидать.
Читать дальше