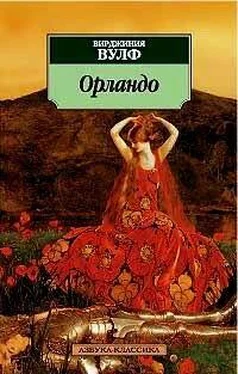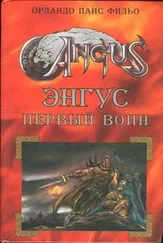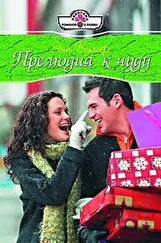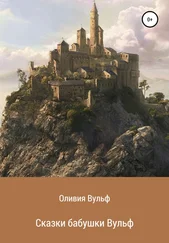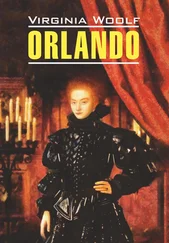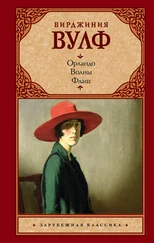Вечер поражал красотой. Солнце садилось, и все купола, башни и шпили Лондона ярко чернели на червлени закатных облаков. Резной крест Чаринга; купол Святого Павла; громады Тауэра; вот занялись окна Аббатства и горели многоцветными небесными щитами (фантазия Орландо); вот запад уже слился в одно золотое окно, и ангелы (опять – фантазия Орландо) сбегали и взбегали по небесным ступенькам.
И все время, все время коньки скользили как по бездонной пучине неба, так ярко синел лед; и так стеклянно-гладок он был, что они разгонялись быстрей, быстрей, и белые чайки расчерчивали воздух крыльями, как в зеркале отражая росчерки коньков.
Саша – не старалась ли она его задобрить? – была нежней всегдашнего и даже еще пленительней. Обычно она не любила говорить о своей прежней жизни, а тут рассказала, как зимой в России слышала дальний волчий вой и, трижды тявкнув по-волчьи, продемонстрировала, как это звучит. В ответ он рассказал ей про оленей в заснеженном парке, как они забредают в гулкие залы погреться и один старик их кормит кашей из ведра. И она его расхваливала – за любовь к животным, за отвагу, за его ноги. В восторге от ее похвал, пристыженный тем, что мог вообразить ее на коленях у простого матроса, а потом и раздобревшей, вялой и сорокалетней, он сказал, что не находит слов, чтоб достойно ее расхвалить; однако тотчас сообразил, что она похожа на ручей, на мураву, на волны, и, сжав ее в объятиях еще нежней, чем всегда, полетел с нею по льду, обгоняя удивленных чаек и бакланов. И она наконец задохнулась, остановилась и сказала ему, что он как рождественская елка, разубранная миллионом свечек (так принято у них в России), увешанная желтыми шарами, – вся в пламени, света на целую улицу хватит (так приблизительно можно бы это перевести); ибо со своими пылающими щеками, темными кудрями и черно-красным камзолом он словно сияет собственным пламенем, словно у него засветили лампу внутри.
Все краски, кроме полыхания Орландовых щек, скоро выцвели. Настала ночь. Оранжевость заката погасла, уступив место странно белесому свечению факелов, костров и прочих приспособлений, и разом все удивительно переменилось. Храмы, дворцы вельмож, отделанные белым камнем по фасаду, плыли по воздуху, высвечиваясь полосами и пятнами. От Святого Павла, в частности, уцелел один золоченый крест. Вестминстерское аббатство зыбко серело скелетом листа. Все истончилось, оскудело, все преобразилось. Звуки стали плотнее, гуще. Приближаясь к месту гуляний, Орландо и Саша услышали звук – протяжный, чистый, как от удара по камертону; он разрастался, крепчал, пока не разразился гремучим раскатом. То и дело взвивались ракеты, и восторженный рев их приветствовал. Вот стали заметны маленькие фигурки, отрывавшиеся от толпы и кружившие по льду, как мошки. И над этим сверкающим озерцом черной чашей мрака опрокинулась зимняя ночь. И в черноте этой, с нагнетавшими нетерпение паузами, расцветали ракеты: полумесяцы, змейки, короны. На миг дальние холмы и леса оживали, как в летний зной; и снова на них падали ночь и зима.
Орландо и Саша, уж совсем близко к королевской площадке, прокладывали путь в густой толпе простонародья, теснившейся поближе к шелковой ленте. Не спеша расстаться с уединением и попасть под неусыпное соглядатайское око, парочка медлила среди подмастерьев, портняжек, рыбачек, конских барышников, проходимцев, голодных грамотеев, горничных в косынках, торговок апельсинами, конюхов, трезвых граждан, бесстыжих кабатчиков, маленьких оборвышей, всегда примазывающихся к любой толпе, орущих, мешающихся под ногами, – словом, весь лондонский уличный сброд теснился тут, толкался, пихался, кидал кости, громко предсказывал судьбу, щипался, щекотался; тараторил, горланил – там хмуро, там буйно, – одни изумленно разинув рот, другие с каменным безразличием галок на заборе; разнообразие оснастки отражало состояние кармана: одни были в мехах, парче, другие в рубище, и ноги защищены от жалящего льда лишь рваными обмотками. Основная масса толпилась, пожалуй, перед подмостками, на каких у нас показывают Панча и Джуди, и глазела на представление. Черный мужчина махал руками и орал. Женщина в белом лежала на постели. Актеры метались вверх-вниз по ступенькам, то и дело спотыкались, и публика топала, свистела, а то от скуки запускала в них апельсинной кожурой, за которой тотчас кидался беспризорный пес, – но при всей неуклюжести, при всей невозможности зрелища странная путаная мелодия слов завораживала Орландо, как музыка. Выговариваемые дерзко-спешащим говорком, напоминавшим о песнях матросов в пивной на Уоппинг-оулд-стеэрс, слова эти и помимо смысла пьянили его, как вино. Но когда, долетев через лед, отдельная фраза ударяла по сердцу, ярость мавра оказывалась его яростью, а когда мавр удушал женщину в постели – это сам Орландо убивал Сашу собственной рукой.
Читать дальше