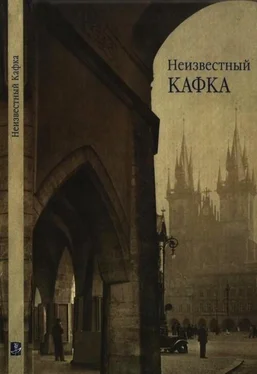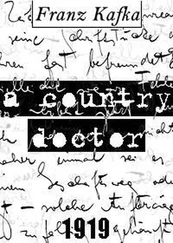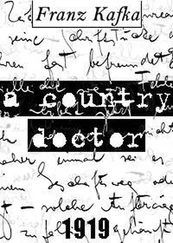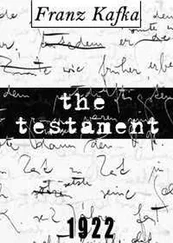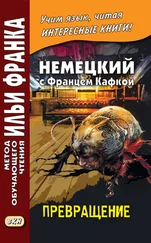В одной из работ последних лет [38]общая характеристика творчества Кафки дается на основе рассмотрения всего лишь части его афоризмов, то есть буквально десятка страниц текста.) «В его словесном наследии… трудно провести (или проводить? — с видами глагола здесь тоже характерная трудность) какие бы то ни было границы» [39]. Несомненно так. И тексты книги, которая у вас в руках, соединяясь, образуют сплошной спектр, в котором тончайшие, почти нечувствительные градации переживания ведут от «инфракрасных» фотографических отпечатков окружающего до «ультрафиолетовых», проникающих сквозь сознание излучений фантазии.
Но все-таки как же понимать, как трактовать эти фантазмы, эти, по определению Юнга, визионерские переживания? «Читатель требует комментариев и истолкований; он удивлен, озадачен, растерян, недоверчив или, еще того хуже, испытывает отвращение. Ничто из области дневной жизни человека не находит здесь отзвука, но взамен этого оживают сновидения, ночные страхи и жуткие предчувствия темных уголков души» [40]. Ну, так давайте попытаемся заглянуть в них, понять, откуда все это берется: «Над происхождением визионерского материала разлит глубокий мрак — мрак, относительно которого многим хочется верить, что его можно сделать прозрачным» [41]. Однако мы сталкиваемся здесь с тем, что в принципе не поддается рационализации: этот «материал, то есть переживание, подвергающееся художественной обработке, не имеет в себе ничего, что было бы привычным; он наделен чуждой нам сущностью, потаенным естеством, и происходит он как бы из бездн дочеловеческих веков или из миров сверхчеловеческого естества, то ли светлых, то ли темных… Значимость и весомость состоят здесь в неимоверном характере этого переживания, которое враждебно и холодно или важно и торжественно встает из вневременных глубин; с одной стороны… какой-то жуткий клубок извечного хаоса или, говоря словами Ницше, „оскорбление величества рода человеческого“, с другой же стороны перед нами откровение, высоты и глубины которого человек не может даже представить себе, или красота, выразить которую бессильны любые слова» [42]. Переживание такого рода «снизу доверху раздирает завесу, расписанную образами космоса, и дает заглянуть в непостижимые глубины становящегося и еще не ставшего. Куда, собственно, в состояние помраченного духа? в изначальные первоосновы человеческой души? в будущность нерожденных поколений? На эти вопросы мы не можем ответить ни утверждением, ни отрицанием» [43]. (Не правда ли, такое ощущение, что Юнг писал именно об этом томе Кафки, да еще и воспользовался образом из фрагмента 228?) Но что же получается, ignoramus et ignorabimus — «не знаем и никогда не узнаем»? Нечего и пытаться что-то понять? Ну, попытаться, видимо, стоит хотя бы для того, чтобы удостовериться: да, это подлинно визионерский материал, рационально он не объясняется. Положим, мы удостоверились, что, действительно, перед нами задача, противоречивая по определению: понять иррациональное, то есть, по словарю, недоступное пониманию разумом — как будем ее решать? А как в практической жизни решаются подобные задачи? Скажем, как происходит понимание исходно неясного материала в недискурсивных, «без-рассудочных» сферах, например, в музыке? Всякая неясность в музыке разъясняется повторением, но, как говаривал А. Шенберг, не таким как «я — идиот, я — идиот, я — идиот» [44]. Хорошо, а — каким? Выдающийся скрипач теперь уже прошлого века Леонид Коган в одном из интервью как-то признался, что концерт Бартока он начал понимать только после того, как тридцать раз сыграл его со сцены. Трудоемко. Возвращаясь к прочтениям Кафки, можно вспомнить и рекомендацию Теодора Адорно «вживаться в несоразмерные, непроницаемые детали, в „глухие“ места» [45]. Затратно. Но если в искусстве нет царского пути, то, очевидно, нет и парадного подъезда. А подходы есть. И один из наиболее естественных — сопоставление.
Ни великое, ни новое не возникают на пустом месте, и творчество Кафки при всей необычности — вовсе не что-то надмирное или потустороннее, а напротив, «человеческое, слишком человеческое». «Прочитанный впервые, он был ни на кого не похож… освоившись, я стал узнавать его голос, его привычки в текстах других литератур и других эпох» [46], — писал Хорхе Луис Борхес. Его сопоставления очень любопытны, и в особенности интересно, что именно услышал Борхес как созвучное Кафке, — ведь это, по существу, штрихи к творческому портрету, краткий перечень некоторых черт, которые выделяют феномен Кафки. Какие же это черты и как они читаются — если вообще различимы — в коротких набросках и фрагментах Кафки? Первый из называемых Борхесом текстов — парадокс Зенона о невозможности движения. Мы уже имели возможность заметить, что Кафка — «парадоксов друг». Пересказав апорию «дихотомия», Борхес пишет: «Форма знаменитой задачи с точностью воспроизведена в „Замке“: путник, стрела и Ахилл — первые кафкианские персонажи в мировой литературе» [47]. Как охарактеризовать такую литературу? Быть может, так: выражение невозможности существования как форма существования. Второй текст — китайская притча IX века о единороге — существе из другого мира, приносящем счастье, но с трудом поддающемся описанию. «Это не конь или бык, не волк или олень. И потому, оказавшись перед единорогом, мы можем его не узнать. Известно, что это животное с длинной гривой — конь, а то, с рогами, — бык. Но каков единорог, мы так и не знаем» [48]. И Борхес отмечает, что неузнавание священного животного — одна из традиционных тем китайской литературы. Борхес считает, что это похоже на Кафку. Действительно, помимо очевидной параллели с «Замком» (ведь Кламм, внешность которого неопределенна, — тоже, в своем роде, священное животное), бросается в глаза обилие у Кафки эпизодов неузнавания, это один из сквозных его мотивов (ср., например, запись 5.30, фрагменты 63, 92, 152, 171, 206, 250, 262и др.). Что здесь выразилось? Пожалуй, ощущение зыбкости, ненадежности, неверности нашей памяти, нашего зрения, нашего мира: все может обмануть, всякий лик — обернуться личиной, и все они словно бы знакомы, и в каждый стараешься пристально всматриваться, но нерастворимый осадок недоверия, осевший на дне души, застилает и глазное дно. Это ощущение, истоки которого, очевидно, в детстве, в недостатке домашнего тепла и родительской любви, связано с постоянно прорывающимся у Кафки чувством одиночества, заброшенности, богооставленности, с мечтой о любящем Отце, в которого он не позволяет себе верить, потому что это было бы слишком хорошо, но все же украдкой, втайне от себя и насмехаясь над собой, верит. Перекличка с Кафкой четвертого из текстов, указанных Борхесом, стихотворения Браунинга «Страхи и сомнения» (в котором знаменитый друг и благодетель героя оказывается — или кажется — несуществующим, но герой «в последней строке спрашивает себя: „А если то был Бог?“» [49]), представляется очевидной, прямое подтверждение этому — фрагмент 64. К тому же нельзя не заметить напряженности постоянных религиозных размышлений у человека, в собственном смысле слова нерелигиозного, и Борхес в связи с третьим текстом, а именно с текстом Кьеркегора, прямо указывает черту сходства: изобилие религиозных притч на современном бытовом материале. Здесь помимо отмеченных Бродом фрагментов 145и 146можно вспомнить запись 4.84, фрагменты 100, 109, 128, 129, 188, 295, 298и многие другие. Наконец, еще два текста, указанных Борхесом: рассказ Леона Блуа, персонажам которого, всю жизнь запасавшимся атласами, глобусами, справочниками и чемоданами, так и не суждено выбраться за пределы родного городка, и рассказ лорда Дансени «Каркасонн», по названию места, к которому, преодолевая все преграды, стремится непобедимое войско, но которого так и не достигает, хотя иногда видит его вдали. Это в чистом виде сюжеты рыцарского героического Поиска неизвестно чего, который то не может начаться, то не может окончиться; они вполне соответствуют выведенной Уистеном Оденом формуле типичного рассказа Кафки [50]. По этой формуле построены и все три его романа. Интересно, что в ряде записей и фрагментов Кафка сам дает несколько формулировок, относящихся к направленности, смыслу и характеру движения его героев. Так, во фрагменте 283(рассказ «В путь») герой прямо «по Одену» отвечает на вопрос о цели своего пути: «подальше отсюда»; в записи 4.86цель уточняется: «подальше от меня», однако двери для выхода нет; в записи 8.17движение героя — это «скачка в гулкой пустоте», в 6.7его девиз: «вперед, вперед, никаких остановок», а в 5.23герой в маленькой лодке «с ничтожной осадкой» безнадежно плывет вокруг мыса Доброй Надежды. Мотивы неначавшегося пути и ускользающей цели варьируются в записях 1.19, 5.30, 6.1, фрагментах 62, 161, 188, 198, 243, 285и других. Что они выражают? По-видимому, «несогласуемость жизни» — непреодолимое противоречие между принципиальными человеческими устремлениями и принципиальной невозможностью их осуществления, — противоречие, которое так остро чувствовал Кафка. Эти услышанные Борхесом созвучия, конечно, выявляют лишь отдельные мелодические линии в огромной симфонической партитуре Кафки. Из этих нескольких штрихов складывается штрих-пунктирный контур призрачного персонажа фрагмента 148: лишенный всякой опоры, он обречен идти по собственному отражению в воде, «судорожно цепляясь вверху за воздух».
Читать дальше