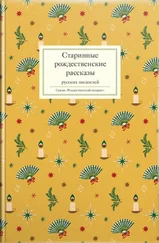Перед Араратовым, между тем, все глубже и шире раскрывалось световое пространство. В нем показались сначала мириады темных подвижных точек; размножаясь с неимоверною быстротой, они сходились столбами – то опускаясь, то подымаясь, – как мошки в знойный вечер, – и вдруг, – словно сговорившись, стали отделяться, увеличиваться в объеме и складываться в то же время в какие-то смутные, неуловимые для глаза очертания…
Не успел Араратов одуматься, как уже в том, что казалось неопределенным, обрисовались человеческие образы и целые группы лиц, спешивших, по-видимому, установиться в известном порядке – как актеры перед поднятием занавеса во время парадного спектакля.
Араратов с первого взгляда узнал не только всех тех, с кем когда-либо встречался в жизни, но увидел между ними самого себя, – и что особенно его изумило, – увидел себя повторенным во всех возрастах и в одно и то же время в разных группах… Еще секунда, – и перед ним, – так же отчетливо, как на стеклах волшебного фонаря, развернулась полная картина его прошлого…
Смущенье его увеличивалось особенно тем, что все, что проходило теперь перед ним, – и главное, – он сам с его заветными мыслями и чувствами, представлялись совсем не в том виде, который знаком был свету и которому, под конец, он сам начинал верить, – но с оборотной стороны, с той изнанки, которую прятал он так же старательно, как скряга прячет свои сокровища. Каждый миг из его прошлого открывал новые черты, и каждая, в свою очередь, обнаруживала, что Араратов лицевой стороны служил только внешней оболочкой совсем другому Араратову, не имевшему с первым почти никакого сходства…
Услужливый, скромный, простосердечный юноша, каким в свое время казался Араратов, – превращался теперь в юношу, который тогда уже холодно обдумывал каждый ход будущей своей карьеры, у которого тогда уже тщеславие было единственным руководителем, а эгоизм единственным чувством… Араратов очевидно также сам себя обманывал, когда, мысленно рассуждая несколько минут перед тем, – величался своими великодушием и щедростью; в этом могли убедить теперь толпы убогих и бедных, выступившие неожиданно в глубине светлого пространства, и сам Араратов, проходивший мимо с таким видом, как будто не замечал их, – не удостоивая их даже взглядом… с противоположной стороны, между тем, как раз показались новые лица; они принадлежали к известному кругу великосветских, влиятельных благотворительниц; но здесь опять нельзя было узнать Араратова; важность походки исчезла; ее заменяли мягкие, скромные движения; почтительно склонив голову, любезно улыбаясь, – спешил он к ним, раскрывая еще издали свой бумажник…
Опять новые лица: перед Араратовым группа просителей; в их числе, – ему это очень хорошо известно, – находятся весьма полезные труженики; он высокомерно, дерзко всем отказывает… Просители исчезают… Вместо них неожиданно открывается рабочий кабинет Араратова с длинным столом, покрытым сукном и заваленным бумагами. Под сукном, – таким же теперь прозрачным, как все остальное, – бросается в глаза список с названием различных вакансий на казенные должности; до настоящей минуты этот список был для всех тайной; но тайны сквозят теперь, как стекло; Араратов не может уже скрыть, что берег этот список на те случаи, когда требовалось определять знакомых ему тунеядцев и этим угождать лицам, которые, в свой черед, могли быть ему полезны…
Новая картина: похороны. Скромны дроги и гроб и еще скромнее проводы; гроб провожает одиноко бедно одетая женщина; Араратов узнает в ней кухарку молодой девушки, которую он соблазнил и сделал матерью. Связь эта сохранялась в глубочайшей тайне; гордость и самолюбие Араратова возмущались при одной мысли, что кто-нибудь может заподозрить его в такой слабости и притом к женщине столь темного, низкого происхождения; на него уже неприятно действовало то обстоятельство, что она не умела держаться в благоразумных к нему отношениях, не довольствовалась его посещениями, но перешла границы и к нему привязалась. Из предосторожности, чтобы такое чувство, усиливаясь в ней постепенно, не вызвало сцен, способных его выдать, Араратов решил прекратить свою связь – как вдруг девушка объявила ему о своей беременности. Он немедленно послал ей денег и с того же дня прекратил свои посещения. Строжайшие меры были приняты, чтобы доступ ее к нему был невозможен; письма ее оставались без ответа. Он успокоился только спустя несколько месяцев, после того, как она разрешилась мертвым младенцем и тут же скончалась родами. Вид печальной колесницы и гроба привели на память Араратову весь этот случай; он не мог уже скрыть теперь, как в былое время, насколько обрадовался тогда счастливой развязке, с какой поспешностью послал денег на похороны и как, вместе с тем, счел несовместным в его положении следовать одиноко за гробом, по петербургским улицам, встречать взгляды любопытных, рисковать, может быть, натолкнуться на знакомых…
Читать дальше

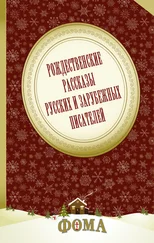


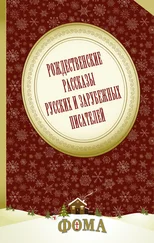
![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)