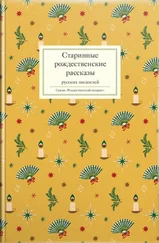– «Отчего же так однако ж? Отчего?!.» – чуть не сорвалось у него с языка; но чувство собственного значения снова удержало его вовремя от восклицания; он ограничился мысленным предложением такого вопроса. «И в самом деле, – продолжал он размышлять сам с собою, – не все ли было сделано, – начиная даже с юности, – чтобы сближаться с людьми, приобрести их сочувствие, – даже признательность?!. С этой целью старания его всегда были направлены к тому, чтобы предупреждать желания, беречь пуще глаза чужое самолюбие; быть безупречным в благодушии, – в том, что называют французы: «lа bienveillance», т. е. – быть всегда снисходительным, стараться даже оправдывать то, что, по личному убеждению, вполне отвратительно; искать всегда случая быть полезным, изобретать даже такие случаи в минуты надобности; изощрять себя в способах быть необходимым, – стараясь сохранить при этом собственное достоинство, но в такой мере однако ж, чтобы оно не имело вида высокомерия в глазах лиц, сильно проникнутых тем же чувством; короче сказать, делать все, что следует, что издавна принято и установлено законами света для приобретения общего расположения и уважения».
«Не только не изменил он образа своих действий после того как, укрепившись на высотах иерархической лестницы, мог дать им более бесцеремонное направление, – но счел еще нужным расширить свою программу, присоединив к ней столь редкие в наше время щедрость и великодушие. Сколько было переделано добрых дел, сколько благодеяний, сколько существенных услуг, сколько лиц, которым оказана была, помощь, – лиц, которые стали на ноги благодаря тому только, что были им определены в должность… Дальше, заручившись властью и окончательно разбогатев, он действиями своими, казалось бы, должен был приобрести еще больше прав на общественную и личную признательность: продолжая трудиться с тем же рвением на пользу общества и отечества, он покровительствовал изящным искусствам (покупая то и дело у Кнопа и Юнкера различные бронзовые и форфоровые украшения), поощрял литературу (годичный его счет у Глазунова доходил часто до двухсот рублей, а счет у Вольфа и Мелье втрое иногда превышал такую сумму); поддерживал художества (статуй и картин у него, правда, не было, но зато все столы в парадных комнатах буквально были покрыты всевозможными фотографическими альбомами и иллюстрированными изданиями в богатейших переплетах); он поощрял в то же время вкусы другого рода: нанял превосходного повара, давал утонченные гастрономические обеды и завтраки, словом, – один только Бог ведает, чего не делал он для людей, для общества… И что же? К чему привело все это в конце концов?!. В результате одна горечь неудовлетворенного чувства, холодное безучастие вокруг, – наконец, полное одиночество, невзирая на богатство и высокое общественное положение, – одиночество совершенно такое, как там, в той пустыне, которая только что ему пригрезилась…»
Он опустил голову на ладонь и задумался.
Так прошло несколько минут… И вдруг ему снова стало что-то мерещиться… Внимание его было теперь привлечено в отдаленную темную половину кабинета…
Там, в ее глубине, на самой середине, между полом и потолком, показалось белесоватое пятно света, – точно клуб пара, освещенный сзади, или мерцающий свет луны, заслоненный подвижным наволоком. Свет быстро однако ж вырастал, надвигался и, постепенно усиливаясь, распускал вокруг себя волнистые фосфорические окраины; в середине светлого мерцанья, касавшегося уже теперь своими краями потолка, пола и боковых стен, выяснялся между тем прозрачный как кристал и весь сияющий неземной красотой, человеческий облик… В глаза его точно вставлены были два крупные алмаза; они горели сверхъестественным блеском, и лучи от них вдруг озарили весь кабинета, нигде не оставляя темного пятнышка; даже в тех местах, которые должны были бросать сильную тень, – и там все внезапно посветлело и сделалось как бы прозрачным… В то же время Араратову послышался голос; он был ему совсем незнаком. Каждый звук отделялся отчетливо и ясно; голос звучал равномерно, бесстрастно, напоминая накат морских волн на ровный плоский берег.
Араратов хотел что-то сказать, приподнял голову, но, ослепленный лучами света, – опустил ее снова. Он попробовал отвернуться, но и это не помогло: свет бил уже отовсюду, все заливал, все пронизывал, – и казалось Араратову, проникал далее в него самого и в глубину его души – не оставляя и в ней точно так же темного уголка. Араратов чувствовал себя точно прикованным, лишенным сил и воли: у него сохранилось ровно на столько сознания, чтобы понять бесполезность борьбы против этих беспощадных лучей, перед которыми все расступалось, все как бы таяло, которые беспрепятственно всюду проникали, не стесняясь, по-видимому, никакими земными условиями, не признавая никаких установленных законов.
Читать дальше

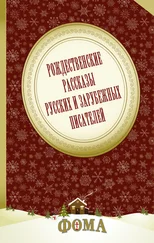


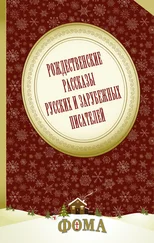
![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)