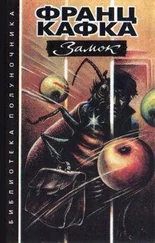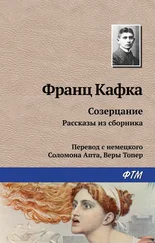Восхищенный этим зрелищем, К. проснулся.
Одни говорят, что слово «Одрадек» славянского происхождения и пытаются на этом основании определить, каким образом это слово возникло. Другие же считают, что оно немецкого происхождения, а славянские языки оказали на него лишь влияние. Но неопределенность того и другого толкования позволяет по праву заключить, что оба они неправильны, тем более что ни одно из них не помогает раскрыть смысл слова «Одрадек».
Разумеется, никто не стал бы заниматься подобными изысканиями, не существуй и вправду некое создание, которое зовется Одрадек. На первый взгляд оно выглядит как плоская звездообразная бобина ниток; и правда, она словно бы обмотана нитками; конечно, это могут быть только обрывки ниток, старые, связанные узлами друг с другом, а также спутанные в комок, самые разные по качеству и цвету. Но это не только бобина, ибо из центра звезды торчит маленький поперечный шпенек, а к тому шпеньку подсоединяется в правом углу еще один. С помощью этого шпенька на одной стороне и одного из лучей звезды на другой вся эта штуковина может стоять прямо — словно на двух ногах.
Тебя так и подмывает решить, что это создание имело прежде какую–то целесообразную форму и теперь оно просто сломано. Однако это не так; во всяком случае, ничто о том не говорит; нигде не видно мест прикрепления или мест излома, которые указывали бы на что–то подобное; штуковина эта представляется бессмысленной, но на свой лад она вполне закончена. Подробнее, впрочем, сказать о ней ничего нельзя, ибо Одрадек исключительно подвижен и поймать его невозможно.
Он водится попеременно на чердаке, на лестничной клетке, в коридорах, в прихожей. Порой его месяцами не видно; тогда он, надо думать, перебирается в другие дома; однако он непременно возвращается опять в наш дом. Порой, когда ты выходишь из двери, а он как раз прислонился внизу к перилам, так и хочется с ним заговорить. Разумеется, ему не задаешь трудных вопросов, а обращаешься с ним — сама его малость обязывает к этому — как с ребенком.
— Как тебя зовут? — спрашиваешь его.
— Одрадек, — отвечает он.
— А где ты живешь?
— Неопределенное местожительство, — говорит он и смеется.
Но смех этот таков, словно порождается без участия легких. Оп звучит, точно шелест в опавших листьях. На этом разговор чаще всего заканчивается. Впрочем, даже этих ответов от него не всегда дождешься; часто он долго молчит, словно деревяшка, какой он и представляется.
Напрасно задаюсь я вопросом, что с ним будет. Может он умереть? Все, что умирает, видело до того какую–либо цель, занималось какой–либо деятельностью и на том измоталось; с Одрадеком это не совсем тот случай. Так неужели он когда–нибудь кубарем покатится вниз по лестнице, волоча за собой нитки, перед моими детьми и детьми моих детей? Он, совершенно очевидно, никому не вредит; но сама мысль о том, что он меня переживет, мне едва ли не мучительна.
Если бы какую–нибудь болезненную, чахоточную цирковую наездницу, сидящую на пошатывающемся коне, месяцами без перерыва гонял по кругу перед неуемной публикой безжалостный, взмахивающий то и знай кнутом шеф, наездницу‚ пролетающую по манежу, рассылая поцелуи, изгибая талию, и если бы эта забава длилась под непрерывный рев оркестра и вентиляторов до все дальше и дальше уходящего седого будущего, сопровождаемая то затухающими, то вновь вспыхивающими овациями, когда хлопающие руки являют собой, собственно, паровые молоты, — тогда, быть может, какой–нибудь юный зритель с галерки поспешил бы вниз по длинной лестнице, мимо всех ярусов, ворвался бы на манеж и выкрикнул: «Стой!» — заглушая фанфары постоянно подлаживающегося оркестра.
Но ведь все случилось не так; прекрасная дама, в белом и алом, влетает на манеж сквозь занавес, раздвинутый перед ней гордыми униформистами; директор, преданно ищущий ее взгляда, искательно спешит, задыхаясь, ей навстречу; заботливо подсаживает ее на серую в яблоках лошадь, словно бы она его самая любимая внучка, отправляющаяся в опасный вояж; никак не решается подать кнутом сигнал; в конце концов пересиливает себя и подает его, громко щелкая; бежит с открытым ртом, рядом с лошадью; следит за скачками наездницы внимательным взглядом; едва понимает ее артистизм; пытается предостеречь возгласами по–английски; неистово призывает конюхов, держащих обручи, к сугубой внимательности; перед ее коронным сальто–мортале заклинает оркестр, воздев вверх руки, заглохнуть и конце концов снимает Малышку с дрожащей лошади, целует в обе щеки и тут хоть какое превозношение публики не посчитает достаточным; сама же она, поддерживаемая директором, высоко поднявшись на носки, овеянная пылью, раскинув руки, откинув головку, желала бы поделиться своим счастьем со всем цирком — а раз все случилось так, зритель с галерки прижимается лицом к барьеру и, погружаясь в звуки финального марша, словно в тяжелый сон, рыдает, сам того не замечая.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
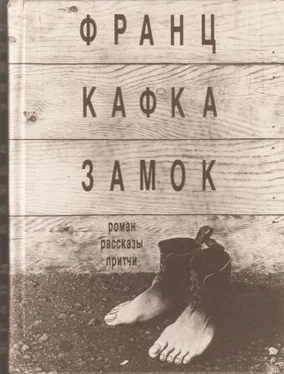

![Франц Кафка - Замок. Рассказы [сборник]](/books/27152/franc-kafka-zamok-rasskazy-sbornik-thumb.webp)
![Франц Кафка - Три романа - [Замок, Процесс, Америка]](/books/27971/franc-kafka-tri-romana-zamok-process-amerika-thumb.webp)