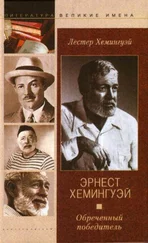Из ныне работающих бандерильеро самым стильным по части дротиков является, пожалуй, Магритас. А вот мастеров плаща на уровне Бланквета нет ни одного. Он работал с ним одной рукой с тем же изяществом, что и Рафаэль «Эль Галло», хотя держался при этом в тени как искусный, но скромный пеон. Именно наблюдая за действиями Бланквета, когда на арене не происходило ничего особенного, я сумел осознать глубину невидимых сторон схватки с любым быком.
Хотите, поболтаем? О чем? О живописи? Чтобы потрафить мистеру Хаксли? Чтобы сделать эту книжку стоящей? Ладно, все равно уже конец главы, так что можно кое-что добавить. Так вот, когда немецкий искусствовед Юлий Мейер-Грэфе приехал в Испанию, ему захотелось увидеть работы Гойи и Веласкеса, чтобы затем тиснуть про них нечто, преисполненное экстаза, но вышло так, что глянулся-то ему Эль Греко. Да так сильно, что захотелось любить одного лишь Эль Греко, а не наряду с другими, и вот, чтобы возвеличить своего кумира, он написал книгу, где взялся доказывать, до чего убогими художниками были эти Гойя с Веласкесом, а в качестве мерила выбрал их полотна с изображением распятия Господа нашего Иисуса Христа.
Глупость редкостная, даже не перещеголяешь, ведь из всей троицы только Эль Греко веровал в Бога или по-настоящему интересовался его крестной казнью. Выносить суждение о художнике можно лишь по тому, как он пишет вещи, в которые верит, ради которых печется или которые ненавидит; так что не больно уж умно судить о Веласкесе (веровавшему в костюмы и важность живописи ради самой живописи) по портрету полуголого мужчины на кресте, которого — как наверняка думал сам Веласкес — вполне удовлетворительно рисовали в той же позе до этого и к которому художник не питал ни малейшего интереса.
Гойю можно уподобить Стендалю; при виде священника любой из этих добрых антиклерикалов мог разбуяниться в творческом приступе. Гойевское распятие — это до цинизма романтичная, деревянная олеография, которая вполне сошла бы за афишу распятий на манер рекламных объявлений о корриде. Уважаемая публика! С любезного разрешения властей шестерка тщательно отобранных Христов будет распята в пять часов пополудни по адресу Монументальная Голгофа, г. Мадрид. В церемонии примут участие нижепоименованные знаменитые, официально уполномоченные и заслуженные палачи в сопровождении личных квадрилий из гвоздобоев, молотырщиков, крестовоздвиженцев, землекопов и прочая и прочая.
Эль Греко любил писать религиозные работы, потому что сам был вполне очевидно религиозен, а также потому, что его несравненное искусство не было ограничено добросовестным воспроизведением физиономий тех благородных аристократов, которые были моделями для его портретов, и он мог как угодно далеко уходить в свой другой мир, так что, осознанно или нет, изображал святых, апостолов, Христов и Богородиц с андрогенными чертами лица и формами, что заполняли его воображение.
Однажды в Париже я разговорился с девицей, которая сочиняла беллетризованную биографию Эль Греко, и я сказал ей:
— Он у вас maricón? [23] Педик. (исп.)
— Нет, конечно, — удивилась она. — С какой стати?
— А вы его работы хоть видели?
— Разумеется.
— Более классических примеров не найти. Считаете, что случайное совпадение? Или, может, все те граждане поголовно были васильками? Насколько мне известно, единственный святой, которого весь мир изображает с таким телосложением, это св. Себастьян. А у Эль Греко они все такие. Вы на его картины-то взгляните. Не обязательно верить мне на слово.
— Никогда об этом даже не думала…
— А вы подумайте, — сказал я. — Раз уж пишете ему жизнь.
— Слишком поздно, — сказала она. — Книга закончена.
Веласкес верил в живопись, в костюм, в псов, карликов с карлицами и, опять-таки, в живопись. Гойя не верил в костюм, но зато верил в черное и серое, в пыль и свет, в холмы над долами, в мадридские окрестности, в движение, в свои собственные cojones, в живопись, гравюру, а также в то, что сам видел, ощущал, осязал, брал в руки, нюхал, чем наслаждался, что пил, на чем разъезжал, от чего страдал, что изрыгал, с чем спал, что подозревал, наблюдал, любил, вожделел, страшился, чем брезговал, восхищался, чего чурался и что разрушал. Естественно, ни один художник не умеет все это передавать, но Эль Греко попытался. Он верил в город Толедо, в его местоположение и зодчество, в кое-кого из тамошних жителей, в синее, серое, зеленое и желтое, в красное, в святого духа, в таинство евхаристии и во всеобщую христианскую сопричастность, в живопись, в жизнь после смерти и смерть после жизни, а также в фей. Если он и был одним из них, то, считай, искупил за все ихнее племя ханжескую, эксгибиционистскую, по-стародевичьи занафталиненную, морализаторскую заносчивость Андре Жида; тунеядствующую и самодовольную распущенность Уайльда, который предал целое поколение; мерзкое, сентиментальное лапанье человеческой природы у всякого уитмена и прочих аффектированных господ. ¡Viva el Greco, el rey de los maricones! [24] «Да здравствует Эль Греко, король педерастов!» (исп.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу