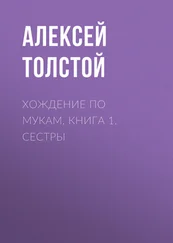– Дома никого нет, конечно?
Великий Могол, – так называли горничную Лушу [15]за широкоскулое, как у идола, всегда сильно напудренное лицо, – глядя в зеркало, ответила тонким голосом, что барыни, действительно, дома нет, а барин дома, в кабинете, и ужинать будет через полчаса.
Даша прошла в гостиную, села у рояля, положила ногу на ногу и охватила колено.
Зять, Николай Иванович, дома, – значит, поссорился с женой, надутый и будет жаловаться. Сейчас – одиннадцать, и часов до трех, покуда не заснешь, делать нечего. Читать, но что? И охоты нет. Просто сидеть, думать, – себе дороже станет. Вот, в самом деле, как жить иногда неуютно!
Даша вздохнула, открыла крышку рояля и, сидя боком, одною рукою начала разбирать Скрябина. Трудновато приходится человеку в таком неудобном возрасте, как девятнадцать лет, да еще девушке, да еще очень и очень неглупой, да еще по нелепой какой-то чистоплотности слишком суровой с теми, – а их было не мало, – кто выражал охоту развеивать девичью скуку.
В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры, Екатерины Дмитриевны Смоковниковой. Муж ее был адвокат, довольно известный; жили они шумно и широко.
Даша была моложе сестры лет на пять; когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж – Даша была еще девочкой; последние годы сестры мало видались, и теперь между ними начались новые отношения: у Даши влюбленные, у Екатерины Дмитриевны – нежно-любовные.
Первое время Даша подражала сестре во всем, восхищалась ее красотой, вкусами, умением вести себя с людьми. Знакомых сестры она робела, иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы; она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. В последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой.
Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что квадратные фигуры, с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как головная боль, – вся эта фабричная, чугунная, циничная поэзия восставшей против Господа Бога прогорклой улицы слишком высока для ее тупого воображения.
Каждый вторник у Смоковниковых, в столовой из птичьего глаза [16], собиралось к ужину шумное и веселое общество. Здесь были разговорчивые адвокаты, женолюбивые и внимательно следящие за литературными течениями; два или три журналиста, прекрасно понимающие, как нужно вести внутреннюю и внешнюю политику; нервно расстроенный критик Чирва, подготовлявший очередную литературную катастрофу. Иногда, спозаранку, приходили молодые поэты, оставлявшие тетради со стихами в прихожей, в пальто. К началу ужина в гостиной появлялась какая-нибудь знаменитость, шла не спеша приложиться к хозяйке и с достоинством усаживалась в кресле. В середине ужина бывало слышно, как в прихожей с грохотом снимали кожаные калоши, и бархатный голос произносил:
«Приветствую тебя, Великий Могол!» – и затем над стулом хозяйки склонялось бритое, с отвислыми жабрами, лицо любовника-резонера [17]:
«Катюша, – говорил он каждый раз, – с нынешнего дня дал зарок, не пью, честное слово».
Главным человеком для Даши во время этих ужинов была сестра. Даша негодовала на тех, кто был мало внимателен к милой, доброй и простодушной Екатерине Дмитриевне, к тем же, кто бывал слишком внимателен, ревновала, – глядела на виновного злыми глазами.
Понемногу она начала разбираться в этом кружащем непривычную голову множестве лиц. Помощников присяжных поверенных она теперь презирала: у них, кроме мохнатых визиток, лиловых галстуков да проборов через всю голову, ничего не было важного за душой. Любовника-резонера она ненавидела: он не имел права сестру звать Катей, Великого Могола – Великим Моголом, не имел никакого основания, выпивая рюмку водки, щурить отвислый глаз на Дашу и приговаривать: «Пью за цветущий миндаль!»
Каждый раз при этом Даша задыхалась от злости.
Щеки у ней, действительно, были румяные, и ничем этот проклятый миндальный цвет согнать было нельзя, и Даша чувствовала себя за столом вроде деревянной матрешки.
На лето Даша не поехала к отцу в пыльную и знойную Самару, а с радостью согласилась остаться у сестры на взморье, в Сестрорецке. Там были те же люди, что и зимой, только все виделись чаще, катались на лодках, купались, ели мороженое в сосновом бору, слушали по вечерам музыку и шумно ужинали на веранде курзала, под звездами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
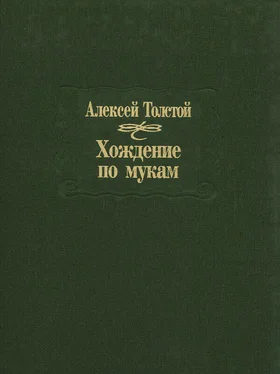
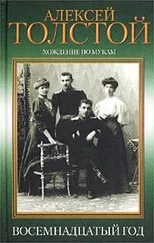



![Алексей Николаевич Толстой - Хождение по мукам [litres]](/books/26263/aleksej-nikolaevich-tolstoj-hozhdenie-po-mukam-litr-thumb.webp)

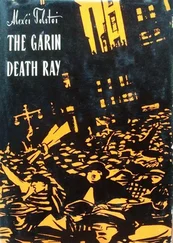
![Алексей Николаевич Толстой - Гиперболоид инженера Гарина. Аэлита [Художник Г. Зубковский]](/books/423486/aleksej-nikolaevich-tolstoj-giperboloid-inzhenera-ga-thumb.webp)