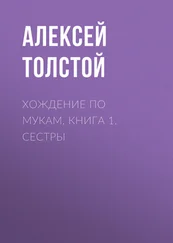Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением. Но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города: центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность, дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем, пропитывал гнилостным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале «Красные бубенцы», – и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали всё, чтобы усилить его и обострить.
То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые, считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности.
Девушки скрывали свою невинность, супруги – верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения – признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие за один сезон из небытия. Люди выдумывали на себя пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными.
Вдыхать запах могилы и чувствовать, как рядом вздрагивает, разгоряченное дьявольским любопытством, тело женщины, – вот в чем был пафос поэзии этих последних лет: смерть и сладострастие.
Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго, – предсмертного гимна, – он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники, – новое и непонятное лезло изо всех щелей.
«...Мы ничего не хотим помнить. Мы говорим – довольно, повернитесь к прошлому задом! Кто там у меня за спиной? Венера Милосская? [11]А что – ее можно кушать? Или она способствует рощению волос? Я не понимаю, для чего мне нужна эта каменная туша. Но искусство, искусство, брр! Вам все еще нравится щекотать себе пятки этим понятием? Глядите по сторонам, вперед, под ноги. У вас на ногах американские башмаки? Да здравствуют американские башмаки! Вот искусство: красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензину и сто двадцать верст в час. Это возбуждает меня пожирать пространство. Вот искусство: афиша в шестнадцать аршин и на ней некий шикарный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре. Это портной, художник, гений сегодняшнего дня! Я хочу пожирать жизнь, а вы меня потчуете сахарной водицей для страдаюших половым бессилием...»
В конце узкого зала, за стульями, где тесно стояла молодежь с курсов и университета, раздался смех и хлопки. Говоривший, Петр Петрович Сапожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгающее пенсне и бойко сошел по ступеням большой дубовой кафедры.
Сбоку ее, за длинным столом, освещенным двумя пятисвечными канделябрами, сидели члены общества «Философские вечера». Здесь были и председатель общества, профессор богословия Антоновский, и сегодняшний докладчик – историк Вельяминов, и философ Борский, и лукавый писатель Сакунин.
Общество «Философские вечера» в эту зиму выдерживало сильный натиск со стороны мало кому известных, но зубастых молодых людей. Они нападали на маститых писателей и почтенных философов с такой яростью и говорили такие дерзкие и соблазнительные вещи, что старый особняк на Фонтанке, где помещалось общество, по субботам, в дни открытых заседаний, бывал переполнен.
Так было и сегодня. Когда Сапожков при рассыпавшихся хлопках исчез в толпе, на кафедру поднялся небольшого роста человек с шишковатым, стриженым черепом, с молодым, скуластым и желтым лицом, – Акундин. Появился он здесь недавно, успех, в особенности в задних рядах зрительного зала, бывал у него огромный, и, когда спрашивали – откуда и кто такой? – знающие люди загадочно улыбались. Во всяком случае, фамилия была ему не Акундин, приехал он из заграницы и выступал неспроста.
Пощипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихшее зало, усмехнулся тонкой полосой губ и начал говорить.
В это время, в третьем ряду кресел, у среднего прохода, подперев кулачком подбородок, сидела молодая девушка в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные, тонкие волосы были подняты над ушами, завернуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за зеленым столом, иногда ее глаза подолгу останавливались на огоньках свечей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
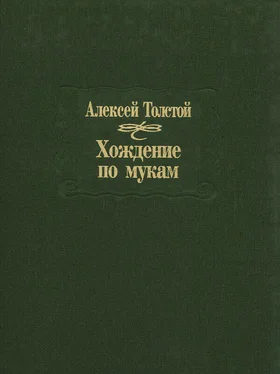
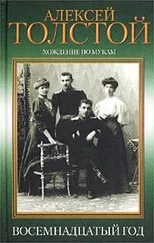



![Алексей Николаевич Толстой - Хождение по мукам [litres]](/books/26263/aleksej-nikolaevich-tolstoj-hozhdenie-po-mukam-litr-thumb.webp)

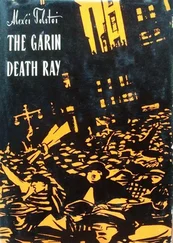
![Алексей Николаевич Толстой - Гиперболоид инженера Гарина. Аэлита [Художник Г. Зубковский]](/books/423486/aleksej-nikolaevich-tolstoj-giperboloid-inzhenera-ga-thumb.webp)