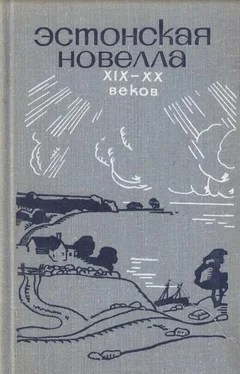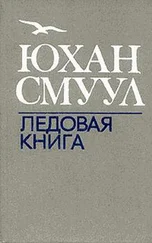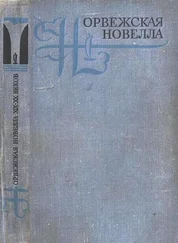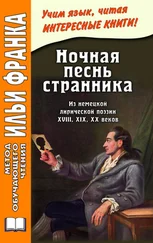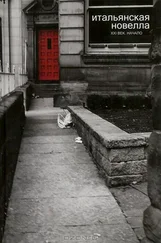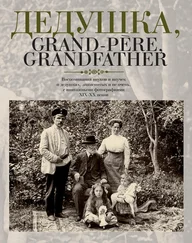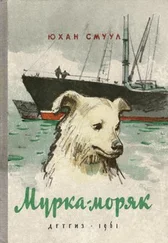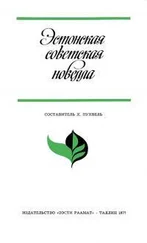Особый раздел в эстонской новеллистике составляют картинки жизни и быта родных мест, выполненные в сюжетно и композиционно свободной форме, часто в жанре миниатюры или лирической зарисовки. К ним любят обращаться писатели-сааремаасцы, проникновенно описывающие своеобразную природу родного края, чуть архаичный быт островитян, где любопытно переплетается старое и новое. Таковы книги Айры Кааль и Юхана Пеэгеля, в которых русский читатель, вероятно, почувствует нечто близкое к манере В. Солоухина.
К середине 1960-х годов новелла выдвинулась на одно из первых мест в современной эстонской литературе. Это совпало с периодом внутренней трансформации традиционной формы новеллы, с поисками новых средств художественного выражения, которые продолжаются и поныне. В конце 1950-х — начале 1960-х годов в эстонской прозе бытовал главным образом классический тип реалистической новеллы, где основным был принцип жизненного правдоподобия, принцип отображения человека и среды в образах самой жизни. Писатели стремились воссоздать реальные соотношения, взаимосвязи действительности, стремились к логически последовательному развитию действия, чтобы полнее раскрыть характер героев, причем в процессе этого прояснялась и авторская позиция, достаточно четко определенная.
В современной новеллистике с этим традиционным типом рассказа соседствуют другие. Получает признание лирическая новелла, где все дается сквозь призму авторской личности, повествование становится подчеркнуто эмоциональным, интимным и одновременно субъективным. Иногда в новеллу вторгается фантастика, реальные связи сознательно нарушаются, какая-то одна сторона этих связей приобретает самостоятельность, отрывается от других, гиперболизируется, действие переносится в условный мир. Молодые новеллисты особенно любят прием гротеска, порою приводящий к некоей принципиальной абсурдности (в отдельных случаях к мифологичности) описываемого, если подходить к нему с точки зрения повседневного «здравого смысла». При этом заметны определенные издержки: в новеллах ряда молодых авторов теряется нить логической последовательности, подчеркивается разрозненность не только психики героев, но и самого действия. Новелла нередко строится не на сюжетном единстве, а на сближении, сопоставлении сюжетных и внесюжетных фрагментов. Герой ощущает себя сразу в двух временных планах, из которых один может быть реальным, а другой — фантастическим. Вместо одной определенной авторской точки зрения мы встречаем в некоторых новеллах взгляд на события, ситуацию под разным углом зрения, — возникает многомерное осмысление действительности (Р. Салури). Все это усложняет внутреннюю структуру новеллы, размывает ее традиционные жанровые признаки. Появляются новеллы-исповеди, новеллы-монологи, новеллы-сказки, новеллы-мифы, наконец новеллы, как бы представляющие собой конспект, эскиз какого-то большого полотна. Во всех этих поисках современных новеллистов, сопровождающихся спорами и дискуссиями, есть немало экспериментаторства, но все же это не всегда просто дань моде, а и стремление глубже понять a отразить современный сложный мир, сложную психологию современного человека.
Особенно острая полемика разгорелась вокруг творчества Арво Валтона. А. Валтон начал с внешне удивительно простых рассказов, в которых не было ни замысловатого сюжета, ни ярких персонажей, ни красочного стиля (сборники «Странное желание», 1963; «Между колес», 1966). Он показывал своих героев в обыденной обстановке, где не совершалось ничего выходящего за пределы повседневности. И сами герои были подчеркнуто обыкновенными, не способными изменять обстоятельства, в которые они были поставлены жизнью. Писатель рисовал их со свойственной эстонским новеллистам грустной, приглушенной задушевностью, хотя он и видел их слабости, смешные стороны. Но в сборнике «Восемь японок» (1968) художественная манера А. Валтона меняется: герои его оказываются теперь в нарочито усложненных, иногда условных ситуациях. Писатель прибегает к гротеску, сатире, к нагнетанию противоречий, кризисных положений. Тем не менее А. Валтон рисует все же реальные противоречия — между живым человеком и старыми, обветшалыми нормами жизни. Объекты его сатиры — догматизм, рутина, самодовольство, пустая суета, но также и серая повседневность, убивающая человека. Однако писатель не остановился и на этом. В сборнике «Придворная игра» (1972) читатели увидели опять нового, Валтона, обратившегося теперь к истории. Правда, и в прошлом его волнуют проблемы, близкие нам, людям второй половины XX века.
Читать дальше