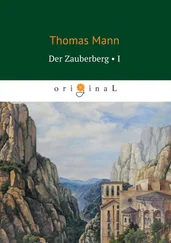— Как глупо, что мы, даже не кончив школы, с головой ушли в коммерцию, — говаривал он своему другу и почитателю Стефану Кистенмакеру, под «мы» разумея себя одного.
И Стефан Кистенмакер отвечал:
— Да, ты прав!.. Хотя почему, собственно?
Сенатор работал теперь по большей части в одиночестве у себя в кабинете, за большим столом красного дерева: во-первых, потому, что здесь никто не мог видеть, как он, подперев голову руками и полузакрыв глаза, предается своим унылым мыслям, но главным образом он покинул свое место у окна в конторе потому, что свыше сил человеческих было смотреть, как г-н Маркус, его компаньон, сидящий напротив, вновь и вновь педантически расставляет письменные принадлежности и разглаживает свои усы.
Вдумчивая осмотрительность старика Маркуса с годами превратилась в манию, в сущее чудачество, но для Томаса Будденброка это чудачество сделалось нестерпимым, более того — оскорбительным, потому что он с ужасом стал замечать и в себе подобные черты. Да и в нем, от природы чуждом всякой мелочности, развилась теперь своего рода педантичность — пусть в силу совсем иных причин, иного душевного склада.
Пусто было у него в сердце, он больше не вынашивал никаких планов, не видел перед собой работы, которой можно было бы предаться с радостью и воодушевлением. Но тяга к деятельности, неумение дать отдых мысли, действенность натуры, никогда ничего общего не имевшая с естественной и усидчивой работоспособностью его отцов, а какая-то искусственная, обусловленная потребностью его нервной системы, — по существу, наркотическое средство вроде тех крепких русских папирос, которые он непрестанно курил, — всего этого он не утратил, а утратил только власть над своими собственными привычками, — распылившиеся на мелочи, они сделались для него неиссякаемым источником мучений. Он был затравлен тысячами вздорных пустяков, в основном сводившихся к поддержанию в порядке дома и собственной внешности; и тем не менее все шло у него вкривь и вкось, ибо он был не в состоянии удержать в памяти и всю эту ерунду, затрачивал на нее непомерно много времени и внимания.
То, что в городе называли его «суетностью», возросло так, что он и сам уже начал этого стыдиться, но отвыкнуть от прочно укоренившихся в нем привычек не имел силы. Встав от сна — сна не тревожного, но тяжелого и не освежающего, сенатор в халате отправлялся в гардеробную, где его уже ждал старик Венцель, парикмахер, — это бывало ровно в девять (некогда он подымался гораздо раньше), и после бритья ему требовалось еще добрых полтора часа на одевание, прежде чем он чувствовал себя готовым начать день и спускался к чаю во второй этаж. Свой туалет он совершал с такой обстоятельностью, последовательность отдельных процедур, начиная от холодного душа в ванной комнате до момента, когда последняя пылинка бывала удалена с сюртука, а усы в последний раз подкручены горячими щипцами, была распределена так тщательно и неизменно, что однообразное, механическое повторение всех этих приемов и движений доводило его до отчаяния. И все же он не решился бы выйти из гардеробной с сознанием, что им что-то упущено или проделано не так тщательно, из страха лишиться чувства свежести, спокойствия и подтянутости — чувства, которое через какой-нибудь час все равно утрачивалось и требовало восстановления с помощью тех же приемов.
Он экономил на всем, на чем можно было сэкономить, не вызывая лишних разговоров, — только не на своем гардеробе, на поддержание и обновление которого у лучшего гамбургского портного не жалел никаких средств. В его гардеробной, за дверью, которая, казалось, вела в другую комнату, находилась просторная ниша, где, аккуратно расправленные, на гнутых деревянных плечиках длинными рядами висели визитки, смокинги, сюртуки, фраки на все сезоны, на все возможные случаи светского обихода, а на спинках стульев кипами лежали тщательно, по складке сложенные брюки. Комод с большим зеркалом, заставленный различнейшими туалетными принадлежностями и баночками с препаратами для ухода за волосами, был до отказа набит бельем, которое постоянно менялось, стиралось, снашивалось и приобреталось заново.
В этой комнате он проводил долгие часы не только по утрам, но перед каждым званым обедом, перед каждым заседанием в сенате или официальным собранием — словом, всегда перед тем, как куда-то отправиться, показаться на люди и даже просто перед обедом дома, за который, кроме него, садились только его жена, маленький Иоганн да Ида Юнгман. Свежее белье на теле, безупречная и строгая элегантность костюма, тщательно вымытое лицо, запах бриллиантина на усах и терпкий, с холодком вкус зубного эликсира во рту давали ему по выходе из гардеробной удовлетворенное ощущение собранности, которое испытывает удачно загримировавшийся актер, направляясь на сцену. И правда! Жизнь Томаса Будденброка стала жизнью актера, но актера, чье существование, вплоть до мельчайшей из бытовых мелочей, сосредоточено на одной роли — на роли, которая, — за исключением кратких и редких часов, когда, оставаясь наедине с собой, исполнитель ее позволяет себе распуститься, — требует непрестанного изнурительного напряжения всех сил. Отсутствие интереса, способного захватить его, обнищание, опустошение души — опустошение такое полное, что он почти непрестанно ощущал его как тупую, гнетущую тоску, — в соединении с неумолимым внутренним долгом, с упорной решимостью всеми средствами скрывать свою немощь и соблюдать les dehors, сделали существование Томаса Будденброка искусственным, надуманным, превратили каждое его слово, каждое движение, каждый даже самый будничный его поступок в напряженное, подтачивающее силы лицедейство.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
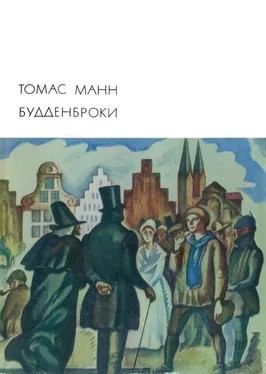

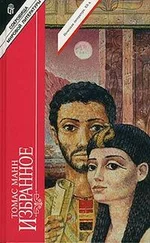





![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)