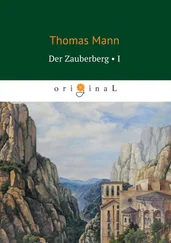Сенатор пожал плечами.
— Поверь, дружок, все, что ты мне об этом скажешь, я и сам с горечью говорю себе… Но это не доводы, а сантименты. Что надо, то надо! Такой огромный участок… На что он нам теперь? Уже долгие годы — со смерти отца — флигель разрушается. В бильярдной поселилась бездомная кошка с котятами, и когда идешь туда — рискуешь провалиться под пол… Если бы у меня не было дома на Фишергрубе! Но он у меня есть, и куда прикажешь мне с ним деваться? Может быть, его продать? Но кому? Я потеряю добрую половину вложенных в него денег. Ах, Тони, у нас довольно недвижимости, слишком довольно! Амбары и два больших дома. Стоимость всего этого ничуть не соответствует размерам оборотного капитала. Нет! Продать, продать, безотлагательно!
Но г-жа Перманедер его не слушала. Согнувшись, уйдя в себя, она смотрела в пространство мокрыми от слез глазами.
— Наш дом! — шептала она. — Я еще помню, как его освящали… Мы были совсем маленькие… Собралась вся семья… И дядя Гофштеде прочитал стихотворение… Оно и сейчас лежит вон там, в папке. Я его наизусть знаю: «…с трудолюбием Вулкана здесь Венеры красота…» Ландшафтная! Большая столовая! Подумать только, что чужие люди…
— Да, Тони! Так, верно, думали и те, кому пришлось выехать из этого дома, когда дедушка его купил. Они остались без средств и должны были уехать отсюда, а теперь они умерли, стали прахом. Всему свое время. Будем радоваться и благодарить Бога за то, что нам приходится не так туго, как тогда пришлось Ратенкампам, и что мы простимся с этим домом при обстоятельствах менее печальных.
Плач, жалобный детский плач прервал его. Г-жа Перманедер так беззаветно отдалась своему горю, что даже не вытирала слез, катившихся по ее щекам. Она сидела съежившись, пригнув голову; теплая капля упала на ее бессильно лежавшие на коленях руки, но она этого даже не заметила.
— Том, — сказала она, и ей удалось придать своему голосу, срывающемуся от слез, кроткую, трогательную твердость. — Ты не знаешь, каково у меня на душе в эту минуту. Твоей сестре плохо пришлось в жизни, уж очень немилостиво распорядилась мною судьба. Все на меня валилось такое, что и не выдумаешь!.. Не знаю, чем я это заслужила. Но я все сносила и не падала духом, Том, — все истории с Грюнлихом, и с Перманедером, и с Вейншенком… Потому что каждый раз, когда Господь вдребезги разбивал мою жизнь, я все-таки не чувствовала себя пропащей. Было у меня место, так сказать, тихая пристань, гостеприимный кров, куда я могла укрыться от всех горестей жизни… Даже теперь, когда со всем уже было покончено и когда они отвезли Вейншенка в тюрьму. «Мама, — сказала я, — можно нам к тебе?» — «Конечно, детки, перебирайтесь»… Когда мы были маленькие, Том, и играли в войну, у нас всегда был «дом» — такое местечко, куда можно было забежать, если тебя теснили, настигали, и там отсидеться в безопасности и спокойствии. И вот мамин дом, этот дом на Менгштрассе, всю жизнь был для меня еще и таким ребячьим «домом»… И его-то теперь… теперь… продать…
Она откинулась назад, обеими руками поднесла к лицу платок и еще горше расплакалась.
Томас отвел ее руки и взял их в свои.
— Все знаю, милая Тони, все знаю! Но разве не нужно теперь набраться благоразумия? Дорогой нашей матери нет больше… Нам ее не вернуть. Так как же дальше? Сохранять этот дом в качестве мертвого капитала — бессмыслица… Мне это виднее, ведь правда? Не превратить же нам его в доходный дом?.. Тебе тяжело думать, что здесь поселятся чужие. А ведь смотреть на это будет еще тяжелее. Не лучше ли снять для себя и для своих хорошенький домик или этаж где-нибудь у Городских ворот… Неужто тебе приятнее будет жить здесь вместе с другими жильцами?.. А семья у тебя все-таки остается, Герда и я, и Будденброки с Брейтенштрассе, и Крегеры, и, наконец, мадемуазель Вейхбродт… О Клотильде я умалчиваю. Может быть, она и не будет удостаивать нас своими посещениями; став обитательницей «Дома Св. Иоанна», она заважничала.
Госпожа Перманедер вздохнула, но уже улыбаясь; затем отворотилась, покрепче прижала к глазам платочек и надула губы, как ребенок, которого шуткой попытались отвлечь от чего-то неприятного. Потом вдруг решительно отняла его от лица, поглубже уселась в кресле и, как обычно, когда надлежало выказать характер и чувство собственного достоинства, высоко закинула голову.
— Да, Том, — сказала она, и ее заплаканные глаза, часто-часто мигая, обратились к окну с выражением серьезным и решительным, — я тоже хочу быть благоразумной. Я уже благоразумна. Прости меня, и ты тоже прости, Герда, за мои слезы. Мало ли что бывает… Слабость нашла. Но, уверяю вас, только внешняя. Вы же отлично знаете, что, по существу, я женщина, закаленная жизнью… Да, Том, насчет мертвого капитала я поняла — более или менее… И могу только повторить: поступай, как считаешь правильным. Тебе приходится думать и действовать за нас, потому что мы с Гердой женщины, а Христиан… ну, да уж Бог с ним! Куда нам с тобой спорить, ведь что бы мы ни сказали, это будут не доводы, а сантименты — ясно как божий день! Но кому ты собираешься его продать, Том? И как полагаешь: скоро ли это удастся сделать?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
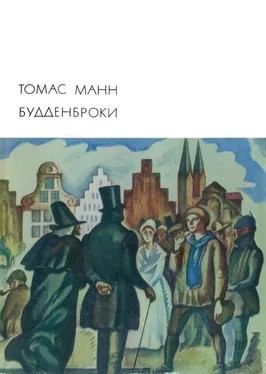

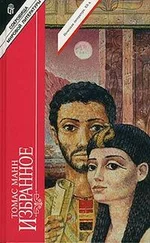





![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)