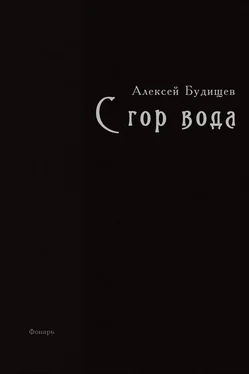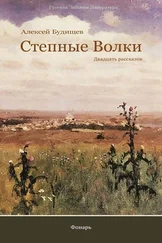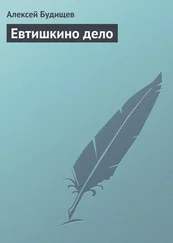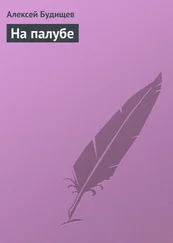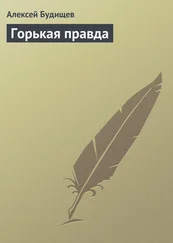«А разве я не хозяин себе больше?» — гордо встало перед ним на мгновение, рассеивая душный и колючий мрак.
— Куда теперь? — спросил извозчик. — Ишь, без малого всю улицу проехали!
— А теперь налево! — резко крикнул Столбушин, раздражаясь.
Свернули налево и опять повернули направо. И тут Столбушин увидел жену, выходившую из Иверской часовни. Столбушин остановил извозчика, кивком головы позвал жену и молча указал место рядом с собою. Та подошла, села и, приветливо улыбаясь ему, сказала:
— Я молебен сейчас у Иверской служила о твоем здравии…
Сердце Столбушина на минуту оттаяло от этих мягких и ласковых слов жены, но вновь тотчас же замерзло в тупом отчаянии.
— Бог даст, ты поправишься, — дружелюбно сказала жена.
Совсем отвернув от нее лицо, Столбушин сказал сухо и резко:
— Нет…
Жена молчала, но он чувствовал ее смятение всей своей кожей.
— Сейчас я был у двух докторов: у того, у которого мы были с тобой, и еще у другого… — выговаривал Столбушин уже более миролюбиво, но все еще скрипевшим голосом. — Оба нашли у меня рак желудка…
Жена все так же молчала, боясь шевельнуться, но он понимал, что она холодеет с головы до ног.
— И оба в один голос они мне сказали, — говорил, отвернувшись, Столбушин, словно внимательно разглядывавший вывески, — что я должен умереть… через год…
Его голос вдруг сорвался, и всего его сильно заколебало.
Его плечи и горбившуюся беспомощно спину несколько раз круто встряхнуло. Валентина Михайловна поняла, что он рыдает. Ласково и тепло она обняла рукав его пальто, ощущая подступающие к горлу слезы.
— Поедем в гостиницу, тебе нужно отдохнуть, — наконец сказала она, стараясь звуком голоса отогреть его иззябшее сердце.
В гостинице, когда он сидел уже на маленьком диванчике и прихлебывал из стакана чай, ей почему-то было стыдно и неловко заглянуть в его глаза.
«В чем я виновата перед ним? Ужели только в том, что он скоро умрет, а я останусь жить?» — томили ее мысли.
А он, морщась, прихлебывал из своего стакана и говорил:
— Я горбом и мозгом моим заработал входный билет на пиршество. Я всю жизнь мечтал об этом пиршестве, как о брачном дне. Кто же смеет прогнать меня от столов, как блудного пса? Какие силы?
И он и Валентина Михайловна легли в этот вечер спать раньше, чем всегда. Донельзя намучившись за день, Валентина Михайловна скоро уснула. А он не спал, лежал в постели и точно остеклевшими глазами глядел в потолок. Всю свою жизнь припомнил он, всю упорную работу по созиданию богатства. Как упрямый бык, шел он к намеченным целям и одолел целые полчища препятствий. У другого человека волос на голове меньше, столько перегородок разбросал он смелыми руками. И в конце концов думал, что одолел судьбу. А на проверку вышло вот что! Вышло, что в самый разгар пиршества обыграла его судьба крапленой колодой.
Поглядывая в потолок, Столбушин сердито проворчал:
— Как шулер трактирный обыграла!
Досадой и злобой чуть покривило его губы.
— А в открытом бою иль не могла со мной совладать? — будто спросил он судьбу заносчиво.
И опять засосало сердце щемящей тоскою.
Все сейчас у него отберут, все до последней нитки. Отберут здоровье и силу и, превратив в дохлую развалину, еле передвигающую ноги, уморят медленной голодной смертью. И тогда шумно и весело поделят оставшиеся и счастливые все сокровища, завоеванные Столбушиным. Все поделят! Все разберут! Все отведают жадными устами!
Даже судорогой скорчило под одеялом Столбушина. Заламывая руки и тяжко уходя головою в подушки, он застонал.
— Все отберут, все, все, — шептал он еле двигающимися губами. Его жена будет женою другого. Кого, именно? — не все ли ему равно. И других, новых владельцев впустит в свои ворота его Муравьев-хутор, гордость его, работа его рук! То, что завоевано кречетом, поделит воронье, храброе лишь в битвах с трупами. Поделят, да еще и осудят, черной хулой помянут окоченевшего кречета. Скажут:
— Он нечистыми путями сокровища эти завоевал!
— А вы к нечистым сокровищам-то этим к чему жадными устами прикасаетесь? Ась? Предайте их пламени, если они плоды нечистых рук.
Совсем искривило губы Столбушина, и от безмолвного смеха грудь задохнулась. Но тут же всего его точно подбросило в постели, и, вывертывая губы, он безудержно расплакался, горлом глотая слезы и испуская из вывернутых губ раздавленные и жиденькие стоны. Так пищит жалкая полевая мышь в когтях ястреба. Но утром он встал как будто бы бодро. Долго и старательно умывался, истово молился перед иконой, почтительно поцеловал руку жены. Но один раз обмолвился, назвал ее Валентиной Николаевной, но тотчас же поправился и смело, сейчас же после чая спросил себе гурьевской каши.
Читать дальше