Отсюда — пешком. Пройдя полчаса девственным лесом, выходим опять на косогор, — новое кладбище! Здесь опять — ни одного дерева стоячего, все в жестоком беспорядке повалилось друг на друга, будто колосья на току, лежат двадцати-тридцатисаженные стволы, и у каждого на конце возвышается словно косматая скала — ни корни не могли расстаться с землей, ни земля — с корнями. Спускаемся по этим горам бурелома вниз, продираемся сквозь них, как маленькая букашка в высокой траве. Вот мы уже внизу, идем по долине, — беда, коль нога рискнет хоть на пядь ступить с тропинки в сторону — на этот зеленый ковер. Тут торфяник, трясина, поросшая ярко-зеленой карликовой сосной, и папоротником, и остропером, но вся поверхность словно ходуном ходит, среди зелени неподвижно блестит вода, и по тропинке идешь, будто по качающейся доске, из-под ноги змейками прыскают струйки воды — отступи только на пядь, и трясина сомкнется над твоей макушкой.
Шапки долой! Мы вступили в девственный лес.
Как описать его?
Мне вдруг показалось, будто я отброшен на целые тысячелетия назад, но радостно-молод, буйно-весел, независим от времени и людей… свободен… свободен! На меня повеяло духом довременного. Была тишина, та же самая, что царила здесь при сотворении мира.
Неожиданно с противоположной горы сорвался ветер. Мы его, правда, не почувствовали, но под нами, в прикорневых криптах, затрещало, в вышине зашумело, свод лесной пошатнулся туда-сюда — весь лес вдруг как будто вздохнул, в нижних ветвях засвистела легкая песенка — тот же шум, та же песня, что были при сотворении! И опять тишина. Ни звериных шагов, ни птичьего свиста, ни звука — торжественная тишина! Слышу биение своего сердца… Господи, как бы в этой тишине и голове и сердцу стало легче!
Мы в храме. Над нами — вверху темный, а в целом светлый свод, в котором лишь отдельными кусочками проглядывает голубое небо, словно мелкий камешек в мозаике. Колонны храма стройно уходят ввысь. Шея заболит, если вздумаешь смотреть, где им конец. Ветви переплетаются, образуя в вышине нечто вроде красивого вышивания. Вдоль стволов свисают вниз, к земле, седые пряди. Иной сухостой, уже без листьев, без коры, стоит еще прямо, похожий на белый скелет. А на земле — поколения, чей возраст — тысячелетия! Где нога в состоянии ступить прямо на землю, она ступает, будто по мягчайшему ковру. А перебираясь через поваленные деревья, хватаешься за бегущую от земли к ветвям или от ствола к стволу красивую гирлянду. Внизу ты видишь трухлявое бревно поросшего зеленым мхом мертвого первозданного великана, на которого навалился другой; формы еще сохранились, но прогнившее тело можно проковырять пальцем насквозь; поперек второго лег третий: у него тоже отвалились все ветви, лежит только длинный труп; а из него выбежали пятьдесят веселых молодых деревцев, питающихся останками отца; корешки их обнимают его, охватили, как обруч, чтоб достичь земли, либо прошли ему прямо сквозь тело. О том, что произойдет в будущем, вы можете судить по соседнему пятисотлетнему юноше: отец под ним исчез, корни образуют целое зданьице — часовенку в храме, — только на высоте сажени от земли сливаются в могучий ствол. А на один шаг дальше целое поколение буйно выбивается из ствола, еще прямого, но переломленного на половине высоты. С изумлением глядим мы на огромный круглый букет в вышине: невозможно представить себе ничего прекраснее — это у господа бога удачно получилось!
Мы медленно идем по храму девственного леса. Вот уже перед нами начало старой Влтавы, здесь еще совсем молоденькой, болтливой, ребячески своенравной. Ее уложили в каменную колыбельку, но ей там не нравится; она сейчас же выбегает вон, — малютка, не больше пальца шириной. И бежит, и тараторит, болтает сама с собой, как ребятишки сами с собой разговаривают. А старый первозданный лес смотрит в ее искристые глазки и протягивает над нею свой плащ, чтоб солнце не обожгло.
Йозеф Манес
Перевод В. Мартемьяновой
{89}
«Слава богу, отмучился!» — шепчем мы, стоя у гроба. — Слава богу! А у самих от жалости сжимается сердце. И чудится, будто нам стало легче — оттого, что наконец-то полегчало ему, художнику, мастеру, благороднейшему из благородных. Йозеф Манес отмучился, отмучились и мы. Завидно-прекрасной и до отчаяния многострадальной была его жизнь, и смерть сжалилась над ним, изрекши свое «Amen!». И мы вторим ей в унисон: «Amen!» — за самих себя и за него тоже, и с души нашей словно свалился тяжкий камень.
Читать дальше
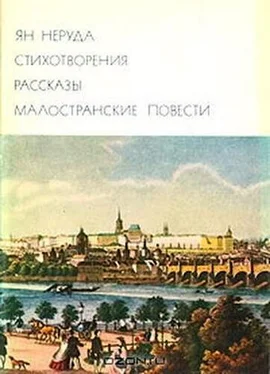


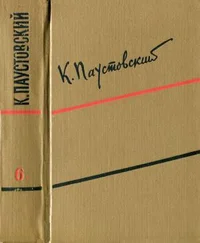






![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/418525/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki-thumb.webp)

