Но вот мусульмане расстилают свои коврики для вечерней молитвы: капитан и помощники показывают им, в какой стороне Мекка.
Солнце склоняется к горизонту. Оно хочет лечь и все сильней краснеет, как невеста, приближающаяся к брачному ложу.
Наконец зашло. Здесь не бывает сумерек: только что был день и — сразу ночь. На юге свет умирает скоропостижно.
На пароходе воцаряется тишина. Неподалеку от нас сидят несколько пассажиров — француженка с мужем, художник, еще кто-то — и разговаривают приглушенно, как обычно в теплые летние вечера, когда чувствуешь в душе успокоение, а над собой — восхитительную умиротворенность молчаливого неба.
Внизу потомок пророка пробует снова запеть. Начнет, а Левко ему сейчас же помешает: повис где-то между реями, и только турок заведет свою песню, он тут как тут — заблеет жалобно, будто голодная коза. Турок терпеливо начинал несколько раз снова, но в конце концов выругался и замолчал.
Еще часок пробудем на воздухе, наедине с морем и небом. Вот уже потянуло ночным холодком.
— Плед!..
Так. А теперь растянемся на крайней скамье.
Всюду разлита тишина.
Судно, со своей трубой, мачтами, реями, медленно движется вперед, подобное кораблю-призраку. Только волны всплещут у его бортов, стукнет машина, сделает выдох труба. Но ухо привыкло к этим близким, однообразным звукам, не воспринимает их. Взгляд устремлен в звездное небо, слух блуждает в пространстве: то ловит каждое биение сердца, то будто прислушивается к вздохам вселенной.
Изумительно! Захочешь — услышишь глубокое и равномерное дыхание океана вокруг, а захочешь — услышишь, как там, наверху, по небу шагает время, как шелестят гигантские крылья столетий и вращаются колеса планетных часов.
Протяжные, придушенные звуки летят над водами: это дышит задремавшее море… «Спи спокойно, буйное дитя!»
Дитятко давно уже спит, но вовсе не смыкая своего глаза. Стоит только слегка нагнуться над бортом, — сразу в него заглянешь… Какой он теперь темный, этот глаз, и в то же время какой сверкающий! Все небо отразилось в нем, сто раз умноженное в его плещущих волнах. Небо полно ярких звезд, луна светит, словно прикрытое зеленой фатою солнце, и каждый луч ее миллионнократно преломляется в волнах, и вся равнина моря как будто горит, как бы сплошь усеянная огненной искрой и золотым песком.
Хорошо бы заглянуть теперь в свои собственные глаза: ведь все эти миллионы огней должны отражаться в них!.. Какое стремление, сколько мыслей пробуждают это небо, это море…
Вот на судно набегает большая волна: быстро ширится, как человеческое стремление, ярко блестит, как надежда людская, — и вот рухнула, рассыпалась искрами… Никогда не вернутся обратно ни волна, ни человек, ни мысль.
Но… что мне до этих волн, правда?! И что морю до моих мыслей, а небу до его отраженья в море? Мы ищем чего-то, что вне нас, а оно всюду: в небе, и в море, и в нас самих! Жизнь — и в солнцах, и в волнах, и в мыслях, и не будь у меня тоже своей собственной жизни, я истомился бы от жажды в этой вселенной, как мореплаватель без пресной воды посреди океана!..
Но удивительны эти переходы, эта перегонка из одного в другое. Душа получает жизнь от моря, море — от звезд, звезды…
Безумие! Последний закон всего сущего, наверно, до смешного прост, а я… я ничего, абсолютно ничего не знаю о нем. Знаю только, что колеса наших планетных часов тоже когда-нибудь перестанут стучать — гиря отлетит, маятник остановится, и тогда… тогда…
Эх!..
Эклога о первозданном лесе
Перевод Д. Горбова
Представьте себе хорошенько, что такое для горожанина лес и вообще — что такое первозданный лес.
От нас до него и до истоков священной нашей Влтавы всего несколько часов, и дорога тянется вверх, вдоль Шумавы, — безмерной и безмерно прекрасной блюстительницы чешской. Мы едем по области мужественных ходов {88} , и каждый миг перед нами — новая картина. То чернолесье, то молодняк и пастбища, то горная долина с деревушкой, будто жемчужиной, посреди, — одна гора пологая, другая островерхая, третья — одинокий мрачный утес. Уже под нами пространство, где хоть овес растет, и мы миновали деревеньку Квилды, где деревянная церквушка волнующе проста, а дома — без единого кирпича, сплошь американский «блок». Дорога идет дальше вверх — к охотничьему домику на Бушине, откуда всего на расстоянии выстрела — Бавария.
Отсюда лесная дорога еще занимательней. Шоссе гулко гудит, как под сводами, и по обеим сторонам между деревьев — следы страшной прошлогодней бури. Целые груды деревьев в чаще повалены, выворочены о корнем, опрокинуты, частью повисли на соседних деревьях либо рухнули на сторону — и торчат вершиной к земле, корнями к небу. Местами чащоба подступила к самому шоссе, стволы перегородили его, и пиле пришлось прокладывать дорогу заново. Вдруг открылась лесная прогалина, и перед нами долина, а за ней — на длинном высоком косогоре по ту сторону — не осталось ни одного ствола, все свалено, перепутано, переломано. Есть во всем этом какая-то удивительная дикая гармония, как во внезапно застывшем потоке лавы, и мертвенность, впечатление кладбища. А вот еще такой же косогор, второе кладбище, а там — третье, четвертое. Здесь прошагала разъяренная природа, исполинская буря: на каждой горе — след ее ноги.
Читать дальше
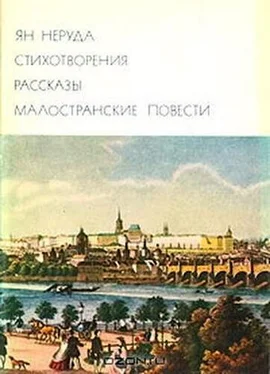


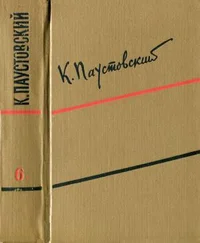






![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/418525/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki-thumb.webp)

