Возле молящихся сохранилась еще часть ночной обстановки: пассажиры третьего класса предпочитают палубу, если только сердобольный матрос не уступит кому из них своей висячей койки внизу. Несколько турок валяются на коврах. Турецкий офицер — потрепанный черный китель сплошь в золотых позументах, не менее густо позолоченные ножны сабли все в грязи — моется, прямо в феске, возле пароходного насоса. Пальцы торчат у него из сапог, и он обмывает то, что вытарчивает. Среди лежащих растянулись два огромных человека, принадлежащих к сирийской секте шиитов. Живописный наряд их, пестрый, как небесная радуга, довольно эффектен: чалма красиво вышита, кафтан из толстого шелка, роскошные пояса, а заткнутые за них оружие и трубки усыпаны драгоценными каменьями, на ногах красные сафьяновые полусапожки с большим вырезом наверху, спереди украшенные голубой шелковой кистью. Счастливые путники! Они посетили «красу Азии» [45]и едут теперь в Бейрут, чтобы попасть оттуда в «город райского благоухания» [46]. Они едут туда не для того, чтобы молиться в мечети Омайядов, где даже через четыреста лет после конца света будут взывать к аллаху, а чтоб накупить там глиняных кружек, сделанных из той красной глины, из которой, наряду с другими хрупкими изделиями, был, говорят, изготовлен и праотец наш Адам. На пароход они сели в Сидоне, и серебряные пряжки на их поясах доказывают, что в этом городе, одном из древнейших в мире, до сих пор не угасло серебряных дел мастерство, которым он славился еще во времена Ахилла и Патрокла. Они, видимо, богаты, но даже самые богатые магометане не оскверяют «нечистый» стол или ложе на христианских пароходах своей особой.
За ними расположился прямо на досках палубы кружок русских паломников: мужчины в длинных темных кафтанах, женщины в простых темно-голубых платьях. Одни причесываются, другие разливают только что приготовленный чай. Бедняк передает кружку бедняку, размачивает хлеб, и все обязательно при этом крестятся. Чай и нынче будут заваривать пятьдесят раз, как вчера, — сколько ж это крестных знамений! Хлеб и чай единственная их пища на всем пути — до самого Иерусалима и обратно, домой; билеты в оба конца они взяли заранее, у себя на родине. Среди сидящих зияет черный люк, ведущий в трюм парохода. Скрипит ворот, гремят цепи, с окружающих пароход лодок взлетают вверх огромные кипы — хлопок из Алеппо — и, повиснув высоко над пароходом, опускаются внутрь. Окружающим приходится беречь свои головы. Левко и тут помогает, и беда чалме «нехристя», если она окажется у него на пути: Левко не любит нехристей.
На кровле салона тоже оживление. Впереди сидит седой монах в сером одеянии и молится по молитвеннику; он из кармелитов. Наш толстый машинист, швейцарец, сидит на другой стороне, возле молодой, пышущей здоровьем монашенки, направляющейся через Александрию в Мессину. Он рассказывает ей, видимо, что-то занятное, так как она не может удержаться от хохота… Да, я ведь сегодня еще ни разу не вспомнил о своем гареме… то есть о гареме яффского турка, ютящемся со вчерашнего утра за салоном, в самом конце палубы… Надо все-таки взглянуть на этих молодых арабок…
Плюх! Плюх! Что-то тяжелое шлепнулось в море. Монашенка быстро взглянула в ту сторону — и густо покраснела. Бог знает что! Двое из наших кочегаров вылезли голые из пароходных недр — и — вниз головой — бултых в воду! Вертятся там, как две почернелые пробки, и скалят зубы, словно акулы…
Да, так этот гарем… просто восточная голь! Выспался холодной ночью под открытым небом и будто взмок… Впрочем, и вчера был немногим приятней на вид. Сидят, — сбились в кучу, как овцы в загоне! У них отдельный повар, негр, огромный, как гора, и грязный, как скамья перед извозчичьим трактиром; евнух целый день варит кофе, набивает дамам трубки и зевает так, что кажется — вот-вот проглотит всю гавань. «Дамы» такие: одна — белая, старуха, толстая, неуклюжая, другая — молодая, черная, опять-таки неуклюжая, потом еще три молодые, белые, тоже — ни в какую. Вчера весь день ковыряли в носу, но не успели закончить, так что нынче продолжают. Одна только подходящая — это ихняя прислужница-арабка, девочка лет пятнадцати. Тоже не бог весть что, руки страшно костлявые и плоские, как лепешки; но, в конце концов, по пражским Пршикопам арабки не бегают! Сейчас она ищет в волосах у толстой негритянки… погоди, за обедом опять спрячу для тебя конфетку!
— Михаил Захарович, белый флаг! — слышится голос капитана, обращающегося к боцману. — Здравствуйте, господа!
Читать дальше
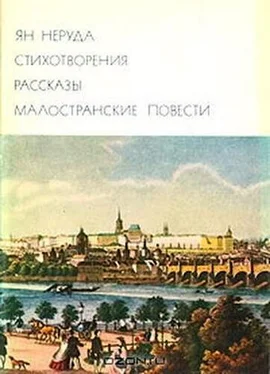


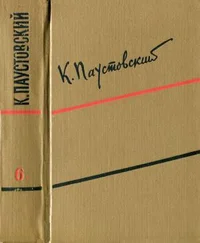






![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/418525/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki-thumb.webp)

