Наше судно — пароход, принадлежащий русской компании, — очень комфортабельно. Салон, на очень многих, особенно французских, пароходах расположен под палубой, здесь поставлен на ней, но так, что, обойдя вокруг него, можно попасть опять на нос. Крыша салона в хорошую погоду служит столовой, а главным образом — как место прогулки для пассажиров первого класса. Но на лестнице, которая туда ведет, нет обидной надписи о том, что, если сюда подымется кто-либо из пассажиров второго или третьего класса, он должен немедленно доплатить разницу в цене билета первого класса, — надпись, имеющуюся опять-таки на французских, а также австрийских пароходах. Тут же кто бы ни зашел — ладно; только простолюдину-магометанину ход закрыт — из-за его неопрятности; а русский простолюдин сам сюда не пойдет, по природной деликатности.
— Андрей, сигару!
Так, — теперь наверх.
Походка уже уверенней, рука легко касается поручней. Только в узком пространстве движения неловки; а где просторно — там и они сразу становятся свободней. Чудное, ясное утро, шире дышит грудь; но здесь, наверху, еще не очень уютно: судно и все, что на нем, занято туалетом. Матрос Левко, молодой, двадцатилетний парень, с пухлой, но миловидной славянской физиономией, был вездесущим — первый внизу, на шлюпке, и первый наверху, на реях, носится по крыше салона и моет ее. Льет из лейки целые потоки воды, намотал веревок на шест, получилось вроде швабры, — и давай хлестать да тереть так, что доски трещат. Где прошел — сыро, где не был — полно сажи. Кроме Левко — тут никого. Только на крыше над машинным отделением, в середине парохода, куда можно перейти по длинному мостику, ходит младший помощник капитана, застегнутый в серый китель. Иду по мостику. Мерсии… И этот уютный уголок есть на карте. Небольшое кольцо зеленых гор, отрогов Тавра. Тихие, немые, стоят они, словно на них от сотворения мира не ступала нога человека. А внизу — четыре белых домика, рядом с ними — шесть деревянных строений на сваях, так что в них нужно подыматься по лесенкам, да несколько груд каменного угля и на песчаной косе — ветряк: вот и весь Мерсип. Судя по высоким шестам, вбитым в землю перед строениями, — здесь одни только резиденции консулов торгующих стран. Шесты — без флагов; только на одном реет и полощется веселая славянская трехцветка.
Этим самым консулам приходится здесь жить, как настоящим Робинзонам! Кроме нашего парохода, у пристани — одно только судно: маленький турецкий парусник, чуть побольше обыкновенного морского фрегата, удивительно нескладный и в то же время причудливый на вид. Словно сбежал со страниц какого-нибудь Джеймсова романа: а те два парня, что лежат кверху задом на палубе, может, пираты, и только прикидываются мирно спящими. Суденышко размалевано веселыми красками, будто в праздник, и на носу его сверкает какая-то, словно мелом набеленная, деревянная девица, со сложенными на груди руками и комично выпученными черными глазами. Качается вверх-вниз, то в море по самую грудь, то опять скорей кверху, словно испугавшись холодной воды. Волны здесь, в затоне, плещут и пенятся, а снаружи, в открытое море, — гладь. На всех остановках вокруг судна кишат белобрюхие, величиной с утку, чайки: они устремляются к волнам, как ласточки на наших реках, качаются на воде, и снова взлетают, и носятся испуганно во все стороны, когда на них набросится сокол или орел; но здесь — ни одного сокола, а чаек — всего каких-нибудь четыре, беззаботных и ленивых.
Взгляд возвращается к судну. Как тут оживленно! Прямо подо мной, за перилами борта, снаружи, на выступе, ведущем к левой боковой сходне, теперь протянутой, сидит, скрестив ноги, турок. На голове у него зеленая чалма, указывающая на его прямую принадлежность к роду пророка; тело обнажено до пояса; он снял рубаху и внимательнейшим образом осматривает каждую складку. Видимо, с самого утра вышел на того самого зверя, которого во времена Гомера ловили аркадские рыбаки: «пойманное оставили там, а непойманное несем с собой». Всякий раз, что-то поймав, он ловко щелкает пальцами и вверяет добычу серебристым волнам. А за ним, у самых перил, что за группа? Еврей, магометанин и христианин бок о бок творят утреннюю молитву. Араб молится, стоя на коврике — без ковра какая же молитва? — и обратившись лицом к Мекке. Рядом, простодушно повернувшись туда же, русский паломник к святым местам; сжатые руки опущены; вдруг он раз тридцать подряд «осеняет» себя крестом, раздвигает полы длинной черной рясы, падает на колени и кладет земной поклон. Араб положит один раз, русский — пять; глаза его из-под длинных нависших волос глядят мечтательно вдаль, губы дрожат так, что покрытый густой бородой подбородок трясется. Позади них, слегка отвернувшись, стоит старый белобородый еврей. На лбу у него маленький деревянный футлярчик — особая молитвенная принадлежность; богато расшитый серебром черный наряд покрывает ему также голову и затылок; руки тоже закутаны… Вид чрезвычайно живописный. Молясь, еврей все время качается справа налево либо взад и вперед. Что это за раскачивание и преклонение на все стороны света и перед всеми богами?
Читать дальше
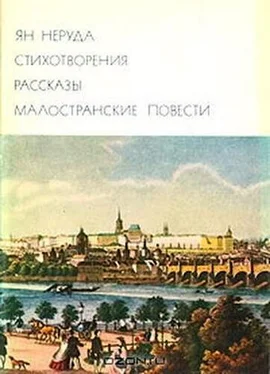


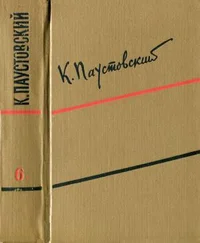






![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/418525/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki-thumb.webp)

