— Вот здесь учат чешскому языку, — сказал мой товарищ и осторожно открыл дверь. Внутри никого не было.
— Входи, мы пришли на четверть часа раньше.
Мы вошли. Огромный пустой зал, его величавые своды напомнили мне храм. Я на цыпочках последовал за своим приятелем, решительные шаги которого казались мне просто непристойными. Мы сели за первую парту и разложили свои школьные принадлежности, предназначенные для дневных уроков. Разглядывая три ряда скамеек, я с восторгом думал о том, сколько учеников может здесь поместиться.
В железной раскалившейся печурке весело потрескивал огонь, и это был единственный громкий звук, потому что мы едва отваживались говорить шепотом. «Давай погреемся», — предложил мой товарищ и первым направился к печке. Я счел это дерзостью, но все-таки последовал за ним, — страшно было оставаться одному за своей партой.
— Тут всех называют господами, — объяснил мне товарищ. — Если профессор обратится к нам, то тоже произнесет: пан такой-то…
Я задрожал.
Вдруг скрипнула ручка, и двери распахнулись; вошел первый слушатель, молодой человек лет двадцати. Мы быстро побежали на свои места, а он, кинув на нас равнодушный взгляд, уселся где-то сзади. Потом пришел второй, третий, четвертый — люди всё молодые, но уже мужчины, а не дети. Какое почтение испытывал я к нашему учителю гимназии, а он учил всего лишь мальчишек! Как же трепетал я перед профессором, учившим взрослых мужчин!
Пробило двенадцать; с последним ударом дверь еще раз отворилась, и вошел профессор Коубек.
— Это он, — прошептал мой товарищ.
Все встали. Коубек поднялся на кафедру.
— Прошу сесть, господа.
А наш учитель всегда командовал по-немецки: «Niedersetzen!» [33]
Потом Коубек снял пальто и ясным, приветливым взором окинул кучку своих слушателей — нас, тех, кто в тысяча восемьсот сорок шестом году изучал в Чехии чешский язык, едва ли набралось больше двадцати человек! Какая разница между приветливым лицом Коубека и недовольными, строгими лицами учителей в нашей гимназии! Я сразу полюбил его, только боялся, вдруг он назовет кого-нибудь из нас паном.
Коубек сел, как-то смешно встряхнулся, словно хотел стряхнуть с себя остатки уличного холода, и посмотрел на нас. Вероятно, фигурки наши чем-то привлекали его внимание.
— Прежде чем начать, — сказал он, — я должен публично поблагодарить пана Гартмана за его прекрасное собрание чешских поговорок, которое он мне дал позавчера. Я очень внимательно его прочитал и должен признаться, что нашел кое-что новое и для себя. Вы нас очень обрадуете, пан Гартман, если продолжите свое начинание. — Коубек слегка поклонился. За одной из парт поднялся молодой человек и, тоже поклонившись, поблагодарил профессора.
— Сегодня мы повторим все то, что прошли в последний раз. Господа, не желает ли кто-нибудь из вас выйти к доске? Нет, не вы, пан Гартман, а вот, может быть, пан, сидящий подле вас?
Кто-то вышел к доске и начал писать фразы, которые диктовал Коубек. А мы писали их у себя в тетрадях. Потом профессор исправлял наши ошибки и давал объяснения, а мы исправляли вслед за ним, и, право, у нас было много дела.
— Видишь, я правильно поставил знак долготы над этим «а», — шепнул мой товарищ.
Как я ему позавидовал! И начал ставить знак долготы над каждым «а».
Диктовка продолжалась приблизительно полчаса. Тем временем вода, которая по дороге натекла в мой рваный ботинок, стала мне досаждать. Это, очевидно, было чересчур заметно, потому что Коубек, прервав свои объяснения, спросил:
— Что там делает самый маленький пан? — Я вздрогнул. — Что вам мешает? — продолжал он.
— Туфеля, — робко ответил я.
— «Туфеля». Ха-ха! — рассмеялся Коубек. — А как бы вы сказали, если бы ударили кого-нибудь mit dem Stiefel? Ну, скажите по-чешски — я его ударил…
— Туфлей.
— Хорошо. Вы видите, господа, как свойственно каждому истинному чеху врожденное чувство родного языка.
Значит, я — истинный чех! И у меня есть что-то врожденное!
— Я принес вам, господа, — продолжал Коубек, — чешский перевод эпилога пушкинского «Кавказского пленника» и прочту его вам.
Он начал читать. Я не понимал содержания и схватывал лишь отдельные слова; но то, что я слышал, казалось мне таким возвышенно-прекрасным, что я готов был слушать, слушать без конца. Мне казалось, будто вокруг меня звенели серебряные колокольчики.
— Разве это не подлинный триумф поэзии? — закончил Коубек и поднялся.
Я не знал, что значит «триумф поэзии», но это выражение запомнил на всю жизнь.
Читать дальше
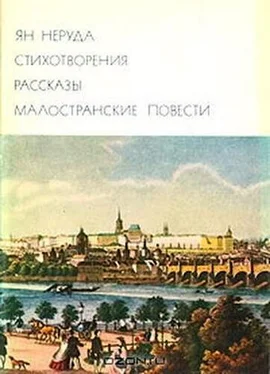


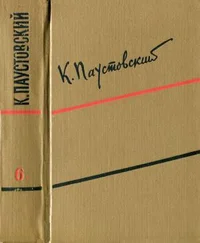






![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/418525/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki-thumb.webp)

