Сад выглядит сегодня как-то иначе, словно чужой. Мне кажется, что здесь другой воздух, другие люди. Однако, поразмыслив, я вижу, что, собственно, мне мешает только доктор Енсен. Он из тех людей, кого называют интересными собеседниками; они достаточно поверхностны для того, чтобы легко болтать на любую тему. Постепенно в садике собираются все, кроме Провазника, и слушают Енсена, словно он рассказывает им бог весть что. Я нисколько не огорчен тем, что я не «интересный собеседник».
Я делаю слабую попытку вести самостоятельный разговор.
— Написали письмо? — спрашиваю я живописца.
— Нет, оставил на завтра. Надо еще подумать. — И он тотчас же обращается к Енсену. — Вы, должно быть, видели в жизни массу интересного, доктор.
— Почему вы так думаете?
— Ну, сумасшедший дом — такое забавное место. Пожалуйста, расскажите нам что-нибудь о нем.
Я снова оттеснен на задний план. Хоть бы Провазник пришел! Но тут я замечаю, что Енсен в затруднении. Я рад этому. Он что-то объясняет о разнице между маниакальным и депрессивным психозом, но присутствующих это не занимает, они хотят знать, «что воображают о себе эти психи», как ведет себя больной, который считает, что он император, или больная, возомнившая себя девой Марией. Енсен не рассказывает об этом и продолжает научное объяснение. В заключение он оговаривается, что «почти каждый человек немножко душевнобольной». Это взволновало всех, только домохозяин спокойно кивает головой и замечает: «Многие здоровые люди даже не знают, какое это благо — здоровье».
Енсен наконец прощается, сказав, что скоро зайдет опять. Смотри, как бы ты не запоздал, думаю я.
Провазника сегодня среди нас не было. О Енсене говорили долго после его ухода, даже слишком долго! Отилия прошептала мне:
— Я боюсь его!
— Врожденный такт иногда очень важная вещь, — отвечаю я.
Кликеш все время уговаривает Семпра. Трактирщик вертится около, стараясь быть как можно ближе. Он то и дело покашливает и волком глядит на Кликеша.
Девять часов, а Енсен уже здесь. Он выглядывает в сад, на галерею и не меньше трех раз глядится в зеркало, каждый раз довольно долго. Потом он осведомляется, не ходит ли кто-нибудь по утрам в сад. Я говорю, что действительно, мне давно пора заниматься. Енсен уходит какой-то недовольный. Ну и пусть!
В полдень живописец посылает ко мне за конвертом. Я гляжу в их окна. Жена и сын стоят у стола и смотрят, как он надписывает на конверте адрес.
Живописец ходит по комнате, конверт он держит в руке и часто останавливается, чтобы поглядеть на плод своего вдохновения. Видимо, он горд.
Днем я прихожу в садик первым. Мне кажется, что проходит целая вечность, пока собираются остальные.
Примерно через час появляется домохозяин с Отилией и начинает со мной разговор о политике. По его мнению, корень всех зол в том, что монархи «никогда не довольствуются тем, что у них есть». Я горячо соглашаюсь с этим. Он изрекает еще и другие сентенции, я восхищаюсь ими. Потом он начинает подвязывать лозы, а я вступаю в задушевный разговор с Отилией. Бог весть почему мы переходим на такую тему, как моя добродетель. Отилия с жаром восхваляет ее. Она все говорит и говорит, растягивая эту тему, как сапожник кожу, когда надевает ее на колодку. Откуда только этой девице известно о моей добродетели?
Приходят живописец с женой. У него довольное, почти победоносное выражение лица. У жены язык снова как бритва.
— Готово письмо? — спрашиваю я.
— Ну конечно! — говорит он с таким видом, словно играючи за полдня разделывается с корреспонденцией всей Европы.
— Надо было там приписать насчет кондукторши, — со смехом замечает Августиха. — Священники интересуются такими вещами.
Что надо было написать о кондукторше?
— Нужно написать еще одно письмо, другому брату в Тарнов, — продолжает живописец. — Мы, братья, пишем друг другу два раза в год, так уж у нас заведено.
Никто его не слушает, разговор о кондукторше продолжается. Толкуют об обер-лейтенанте и о том, что кондукторша вечно высовывает голову из дверей — все ждет, не идет ли обер-лейтенант. Обо всем этом соседи говорят странным тоном, поглядывают на меня и смеются. Меня вдруг осеняет догадка… Так вот почему я был дурнем! В сердцах я говорю что-то, не помню уж что.
Потом мы втроем играем в шестерку.
С предельной выдержкой я терплю все промахи домохозяина и во всем с ним соглашаюсь. Я даже нарочно вытягиваю под столом ногу, чтобы он мог наступать на нее, — пусть получит удовольствие. Он нажимает на нее, как органист на педаль.
Читать дальше
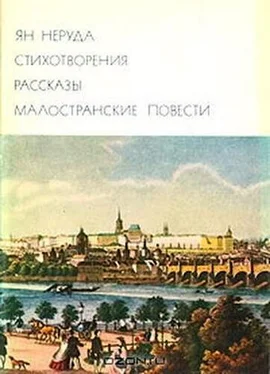


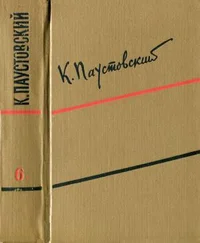






![Михаил Алексеев - Русский характер [Рассказы, очерки, статьи]](/books/418525/mihail-alekseev-russkij-harakter-rasskazy-ocherki-thumb.webp)

