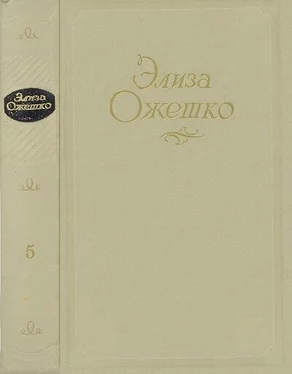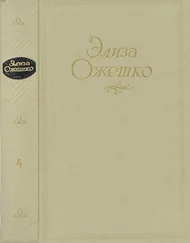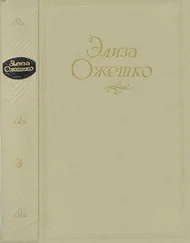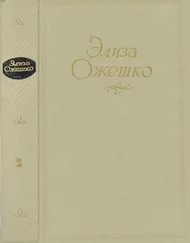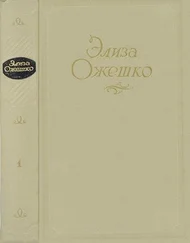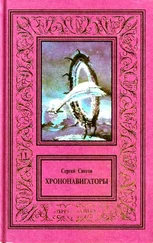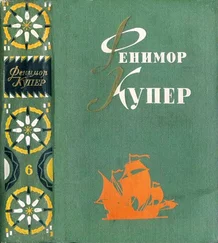Вдруг она оборвала и сильно покраснела. С опущенными глазами, дрожавшим от стыда и сдерживаемых слез голосом она докончила:
— Тогда он поцеловал меня…
Она подняла голову и с недоумением в наивных глазах проговорила:
— И все это должно кончиться ничем? И он мог бы, как говорят люди, покинуть меня навеки? Никогда я в это не поверю! Уехал, потому что должен был уехать, не возвращается до сих пор, потому что не может, но когда ему будет можно… возвратится. Тогда, дорогая пани, я упаду ниц перед богом и все сердце мое изолью в благодарности перед ним, а людям расхохочусь прямо в глаза и спрошу: ну, что? кто был прав? Тот ли, кто верил и ждал, или тот, кто не верил и над чужой верой смеялся? Все это она говорила, сидя на полу, возле выдвинутого комодного ящика, набитого какими-то старыми платьями. Осторожна, боясь как бы не помять какую-нибудь тряпку, она запустила руку в глубь ящика и вынула оттуда белое перкалевое платье, украшенное вышивками из пунцовой шерсти. Перкаль пожелтел, пунцовые полоски полиняли, но панна Теодора смотрела на эти сувениры единственной счастливой минуты своей жизни горячо блестевшими глазами.
— И все это прошло бы так и кончилось бы навсегда? — шептала она.
Бывали, однако, минуты, когда панну Теодору покидали ее непостижимо стойкая вера и надежда на будущее. Случалось это тогда, когда тетка пана Лаурентия, старая сгорбленная женщина, жившая на проценты с маленького капитальца в соседнем переулке, в течение нескольких месяцев не получала писем от племянника. Тогда панна Теодора каждый день, накинув на голову большой платок, бегала за вестями в переулок и возвращалась оттуда медленными шагами, с опущенными вниз глазами. В эту пору ее обыкновенно яркий румянец бледнел, глаза угасали, а убитое, постаревшее лицо обличало внутреннюю муку, выносимую подчас с покорностью, подчас — с протестом и возмущением. Тогда ею овладевало раздражение, вовсе не свойственное ей, и горячечная, нервная подвижность. Как будто занятая чем-то, она бегала по дому и по двору, но ничего не делала. Все валилось у нее из рук. Резко и порывисто она обращалась к брату, на приставанья невестки отвечала криком и грубыми словами, часто хваталась за голову, как будто чувствовала внезапный приступ боли, а возвратившись в свое зальце, заливалась слезами, падала на постель и забывала даже накормить своих снегирей. Потом она снова становилась тихой, мягкой, равнодушной ко всем и ко всему, старательно принималась за шитье, присматривала на кухне за приготовлением обеда и стиркой, а на придирки и шуточки пани Ядвиги не обращала внимания, как будто вовсе не слыхала их.
— Что же делать? — говорила она мне, когда я однажды пришла к ней в зальце, — что же делать? Не вернется он, так и не вернется! Да простит ему бог и да ниспошлет всякое благополучие. А я уж до конца моей жизни проживу в этом зальце с моими птичками и с работой. По крайней мере умру в родительском доме, правда, не отведав счастья, но и по чужим людям не скитаясь и благословляя брата, — хотя он обидел меня и всегда обижает, — потому что это мой единственный и родной брат, а дети его когда-нибудь своими ручонками закроют мои глаза на вечный сон.
И она ласкала, и наряжала, и на руках нянчила этих детей, и ухаживала за ними, и, казалось, любила их вдвое больше в эту пору сомнения и тихого отчаяния.
Но всякий пустяк рассеивал это сомнение, а отчаяние обращал в снова возрождавшуюся надежду. Она врывалась ко мне в большом платке на голове, возвратившись прямо из переулка, и со страстной радостью шептала:
— Получено письмо! Получено! Вчера пани Антонова получила и дала мне прочитать. Своими собственными глазами я видела: «У панны Теодоры целую ручки и прошу не забывать о старом друге». Ну, что? Видите, просит, чтоб я не забывала его, а зачем ему было бы это нужно, если бы он не думал?
В другой раз, возвратившись из какого-то таинственного путешествия в город, она сама призналась потом:
— Была я у гадалки, она живет там, на Наднеманской улице, и все говорят, что удивительно отгадывает и предсказывает будущее… Она гадала мне и сказала, что кто-то ради меня собирается в дорогу, что люди будут завидовать мне, такая буду счастливая.
Глаза ее сверкали, как два сапфира под лучами солнца. Она смеялась и повторяла:
— Надеюсь, не один человек позавидует такому счастью и такому верному обожателю!
Изо всего, что существовало в природе, она выводила хорошие и дурные предсказания для себя. Попадается ей на глаза паук утром — это нехорошо; вечером — отлично. В кистях сирени она всегда искала пятилепестного цветочка; о значении своих снов справлялась в засаленной и растрепанной книжке, лежавшей на комоде, рядом с «Золотым алтарем». Хотя все предсказания и чувства, испытываемые ею по этому поводу, панна Теодора держала в тайне, они все же не укрывались от злобно следившей за нею панни Ядвиги и живой, кокетливой Ельки, которая всем сердцем разделяла вкусы сестры. Для всей семьи это составляло неистощимый источник шуток, в которых пан Клеменс, обрадованный весельем жены и плутовскими гримасами Ельки и, кроме того, сознававший все свое умственное преимущество над сестрой, принимал деятельное участие.
Читать дальше