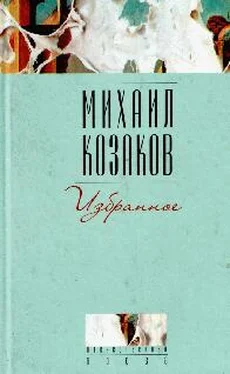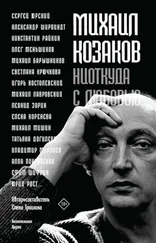— Как?! — вскрикнули в один голос Ольга Самсоновна и Сухов.
— В чем же это можете подозревать… что ли?
— Ни в чем, конечно, Ольга Самсоновна. Ни в чем, уверяю, определенно. Да я, собственно, и не о вашем муже и говорил даже, — улыбнулся и легонько засмеялся Адамейко. — Не так поняли.
— Как же иначе понимать?…
И Ольга Самсоновна посмотрела растерянно на мужа: Сухов был бледен и возбужден.
— Как… ты, Федор? А?…
— Я подожду; пускай сам он все выскажет…
— Правильно! — подхватил Ардальон Порфирьевич. — Я не о Федоре Семеновиче Сухове именно говорил… Я о Сухове — как для примера, значит.
— А-а… — раздался чей-то облегченный вздох.
— Ну, да… Вот так и есть только. Например, Сухов-убийца — разный может быть. Если, заметьте, удавится, — по обстоятельствам личным, как говорил недавно и сам Федор Семенович, — убийство это человеческое — глупо и напрасно вовсе… Так как, по-моему, наложить на себя руки, да еще сделать это нужному гражданину, — то же убийство, но, к сожалению, без возможности наказать самого преступника. Так?
— Так, так, Ардальон Порфирьевич! — живо поддержала его Ольга Самсоновна.
— Она смерти боится, оттого и соглашается… — угрюмо усмехнулся Сухов, покачивая спереди голову и расчесывая ногтем свою бесформенную бородку.
— Это не суть важно в данном случае, заметьте! — наставительно продолжал Ардальон Порфирьевич. — Потом я так думаю: если Сухов малого ребенка убьет, как — помните? — дочку свою на кладбище один рабочий зарезал, так тут ему пощады никакой не давать! Всенародно ему — пулю! Чтоб видели все и прокляли…
— Верно!… — участливо отозвались оба слушателя, и Ольга Самсоновна вздрогнула даже при этом, вспомнив, очевидно, всем известный в столице случай жестокого убийства отцом своей малолетней дочери.
— Значит, в обоих случаях сходимся? — усмехнулся Ардальон Порфирьевич.
— Сходимся! — смотрели доверчиво голубые глаза.
— Вот видите! — уже любуясь ими и чувствуя все увеличивающееся от того волнение, горячо сказал Ардальон Порфирьевич. — А почему так? Я говорю, поверьте, искренно, И о том, что, может, нам всем троим близко. Теперь дальше, Ольга Самсоновна… — обращался он уже к ней одной. — Так сказать, третий случай, самый важный для всего нашего разговора… тот самый, что вас так взволновал, конечно… Жизненный, заметьте, и возможный, потому что…
Но в этот вечер ему не пришлось закончить свою мысль: то, что в ту минуту произошло, оборвало неожиданно его речь и отвлекло от Ардальона Порфирьевича его собеседников.
Из соседней комнаты раздался хриплый, задыхающийся крик ребенка — беспомощный и зовущий. Оба — и Сухов и Ольга Самсоновна — бросились на этот зов.
Сидевшая все время на сундучке Галочка, оттолкнув тут же примостившегося сонного шпица, тоже вскочила и подбежала к дверям.
Все эти полчаса она с присущим детям любопытством прислушивалась к происходившему здесь разговору; очень многое было непонятно ее восьмилетнему уму, но некоторые слова и фразы вошли в ее сознание и в память остро и отчетливо: это произошло и потому, что несколько раз в течение разговора и самой Галочке становилось вдруг страшно и — страшно, казалось, было и сидевшей у стола матери, за которой она внимательно следила.
В течение минуты Галочка смотрела из уголка хмуро и неприязненно на нового знакомого их семьи, и девочка рисовала уже гостя таким, каким представлялся он ее воображению — причудливому и легкому всегда у детей, как облачко.
Если бы знал в тот момент Адамейко, как думает о нем маленькая Галочка, — вернее, как сочиняет она по-разному его образ, как присочиняет она целые фразы ко всему тому, что он говорил и что свежим рубцом оставалось в ее сознании и памяти, Ардальон Порфирьевич поспешил бы сказать, или сделать тогда же что-нибудь особенно приятное не только для девочки, но и для ее родителей, чтобы успокоить тем испуганную Галочку, способную, как и всякий ребенок в ее возрасте, быстро менять свои впечатления…
Галочка приоткрыла дверь, делая попытку прошмыгнуть в комнату, где суетились подле Павлика и Ольга Самсоновна и Сухов.
— Стой! — удержал ее за платьице Ардальон Порфирьевич. — Нельзя… Братишка твой заразит… и тогда ты тоже… Тебе ведь жаль братишку, а?
— Я боюсь, дяденька…
Темные, кругленькие глаза еще больше потемнели от повисших на них слез, а личико как будто уменьшилось и втянулось в худенькую шею, и губы стали сухими и серыми, как тесьма.
Читать дальше