Навстречу нам, по улице, тянется похоронное шествие. Покойник в открытом гробу, установленном на чем то, похожем на паланкин, под веселым ярким покровом — малиновым с золотом. Провожающие в масках и белых мантиях. Но если смерть здесь на виду, то и жизнь также не прячется: кажется, что весь Неаполь высыпал из домов и мчится в колясках. Некоторые из них — обыкновенные извозчичьи экипажи, запряженные тремя лошадьми в ряд, в парадной сбруе с обильными медными украшениями — несутся во весь опор. И не потому, что они едут налегке; в самых маленьких экипажах бывает не менее шести седоков внутри, четверо спереди, четверо или пятеро висят сзади и еще двое-трое в сетке или кошеле под осями, где они задыхаются от грязи и пыли. Кукольники с Пульчинеллой, исполнители веселых куплетов под гитару, декламаторы, рассказчики, ряды дешевых балаганов с клоунами и фокусниками, барабаны, трубы, размалеванные холсты, изображающие чудеса внутри заведения, и восхищенные толпы зевак снаружи усугубляют толчею и сумятицу. Lazzaroni [160]в лохмотьях спят на порогах дверей, под арками, у сточных канав; богатые, нарядно разодетые горожане летают в экипажах взад и вперед по Кьяйя [161]или прогуливаются в общественном саду; чинного вида писцы, занимающиеся составлением писем, примостившись под портиком большого театра Сан-Карло, на людной улице, за своими маленькими конторками с письменными приборами, поджидают клиентов.
Вот арестант в цепях, желающий отправить письмо приятелю. Он приближается к человеку ученого вида, сидящему под угловой аркой, и сторговывается с ним. Он договорился со своим караульным, который стоит поблизости, прислонившись к стене и щелкая орехи. Арестант диктует писцу на ухо, и так как он не умеет читать, он пытливо всматривается в его лицо, стараясь прочесть на нем, правильно ли тот излагает сказанное. Спустя некоторое время арестант начинает путаться, его речь делается бессвязной. Писец останавливается и потирает подбородок. Арестант говорит с жаром. Писец в конце концов схватывает его мысль и с видом человека, знающего, какие тут требуются слова, излагает ее на бумаге, останавливаясь время от времени, чтобы с удовольствием перечесть написанное. Арестант молчит. Солдат терпеливо щелкает орехи. «Не нужно ли добавить что-нибудь к сказанному?» — спрашивает писец арестанта. «Нет, ничего». — «Ну так слушай, дружок». И он читает все письмо полностью. Арестант восхищен. Письмо сложено, надписано и вручено ему; он расплачивается. Писец небрежно откидывается на спинку своего стула и берется за книгу. Арестант поднимает пустой мешок. Солдат отбрасывает в сторону горсть ореховой скорлупы, вскидывает на плечо мушкет, и они уходят.
Почему нищие, когда бы вы ни посмотрели на них, неизменно постукивают правой рукой по подбородку? В Неаполе все выражается пантомимой, и это — условное обозначение голода. А вон человек, повздоривший с другим, кладет ладонь правой руки на тыльную сторону левой и поводит большими пальцами обеих, изображая «ослиные уши», — чем приводит своего противника в бешенство. Сошлись покупатель и продавец рыбы; узнав ее цену, покупатель выворачивает воображаемый жилетный карман и отходит, не говоря ни слова; он убедительно объяснил продавцу, что считает цену чрезмерно высокой. Встречаются двое в колясках; один из них два-три раза притрагивается к губам, поднимает пять пальцев правой руки и проводит ладонью горизонтальную черту в воздухе. Второй быстро кивает в ответ и продолжает свой путь. Он приглашен на дружеский обед в половине шестого вечера, и, конечно, придет.
Во всей Италии особое встряхивание правой руки, согнутой в запястье, выражает отказ — единственная форма отказа, понятная нищим. Но в Неаполе с помощью пяти пальцев можно сказать очень многое.
Все эти и другие проявления уличной жизни и уличной суеты — поедание макарон на закате, торговлю цветами весь день, попрошайничество и воровство в любом месте и в любой час — вы наблюдаете на ярко освещенном морском берегу, где весело поблескивают в заливе волны. Но, господа любители и искатели живописного, не будем так старательно отвращать взор от жалкого порока, разврата и нищеты, неразрывно связанных с веселой неаполитанскою жизнью! Было бы несправедливо находить Сент-Джайлс ужасным, а Porta Capuana [162]привлекательной. Неужели довольно босых ног и рваного красного шарфа, чтобы грубое и отвратительное стало живописным? Можете сколько угодно запечатлевать в стихах и на картинах красоты этого прекраснейшего уголка на земле, но позвольте нам, повинуясь долгу, искать новую романтику в признании за человеком прав на будущее, в уважении к его способностям — а на это, кажется, больше шансов во льдах Северного полюса, чем в солнечном и цветущем Неаполе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
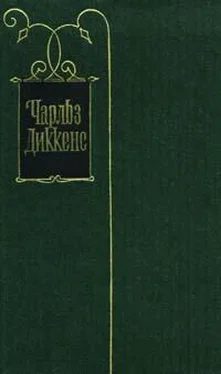





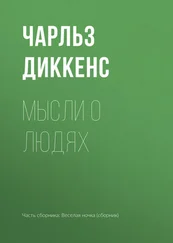


![Пётр Вайль - Картины Италии [litres]](/books/431865/petr-vajl-kartiny-italii-litres-thumb.webp)


