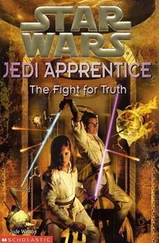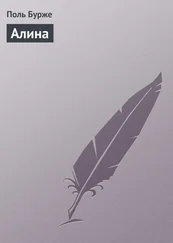Шарлотта стояла передо мной в дорожном костюме, бледная, как лист бумаги, на котором я пишу. Можно было бы объяснить эту бледность утомлением, проведенной в вагоне ночью, не правда ли? Или тревогой за больного брата. Но ее глаза, встретившись с моими, были полны трепетного волнения. Впрочем, это тоже могло объясняться оскорбленной стыдливостью. Шарлотта похудела, как бы растаяла, и когда она в вестибюле замка сняла пальто, я увидел, что на ее прошлогоднем платье, которое я узнал не сразу, возле плечей появились складки. Но ведь она же хворала… Во всяком случае, я, так веривший в метод, в индукцию, вовсе сложности умозаключения, вдруг почувствовал в ту минуту всемогущество инстинкта, который ничем нельзя преодолеть. Она по-прежнему любила меня.
Она любила меня даже сильнее, чем прежде. Какое имело значение, что она не протянула мне руки при первой встрече, что она едва разговаривала со мной в вестибюле, а поднимаясь вместе с матерью по ступеням парадной лестницы, не обернулась в мою сторону? Она любила меня! Эта уверенность после долгих мучений и тревог наполнила мое сердце такой радостью, что, когда я шел вслед за нею по лестнице в свою комнату, я почувствовал себя плохо. Как же мне теперь быть? Облокотившись о. стол, сжимая руками виски, чтобы сдержать пульсирование крови, я задавал себе этот вопрос, но ответить на него не мог., Я только знал, что теперь уже не в силах уехать, что встреча с Шарлоттой не может закончиться разлукой или молчанием, словом, я знал, что мы приближаемся к тому мгновению, когда наши взаимные усилия, тайная борьба и подавляемые желания должны привести к решительному объяснению. Я чувствовал, что это трагическое и неизбежное объяснение уже близко.
Ведь Шарлотта была вынуждена терпеть мое присутствие. Как бы она ни относилась к этому, нам предстояло встречаться с нею у постели ее брата. И в первое же утро по приезде в замок, часов в одиннадцать, когда как раз настала моя очередь дежурить у больного, я застал ее в комнате Люсьена; она разговаривала с ним, а маркиза, стоя у окна, шепотом расспрашивала сестру Анакле. От больного скрыли предстоящий приезд матери и сестры, и теперь в его нервных движениях можно было заметить ту возбужденную, почти лихорадочную радость, какая бывает у выздоравливающих. Он весело улыбнулся мне и, взяв меня за руку, сказал сестре: — Если бы ты знала, как заботился обо мне господин Грелу! Шарлотта ничего не ответила, но я заметил, что ее рука, лежавшая на подушке возле головы брата, вздрогнула. Она сделала над собой усилие и посмотрела на меня, но не выдала своих чувств. Зато мое лицо, по-видимому, выражало сильное волнение, и это ее тронуло. Она поняла, что не отозваться на невинную фразу мальчика значило бы огорчить меня, и мягким, задушевным голосом прежних дней, в котором чувствовалось приглушенное биение трепещущего сердца, она сказала, не обращаясь прямо ко мне: — Да, знаю… И очень благодарна ему. Мы все ему очень благодарны…
Больше она не прибавила ни слова. Но я уверен, что, если бы я снова взял ее за руку, она упала бы в обморок, — так она была потрясена этим незначительным разговором. Я пробормотал что-то невнятное, вроде того, что, мол, все это вполне естественно. Я и сам не очень-то хорошо владел собою. Но Люсьен, не заметивший ни волнения сестры, ни моего смущения, продолжал: — А Андре? Он навестит меня? — Ты же знаешь, что он не может оставить полк, — сказала Шарлотта.
— А Максим? — не унимался мальчик.
Я уже знал, что так зовут жениха Шарлотты. И едва было произнесено это имя, как ее бледное лицо запылало. Наступило недолгое, молчание, во время которого я явственно слышал тихий шепот сестры Анакле, потрескивание огня в камине, мерный стук маятника. Мальчик, удивленный этим молчанием, продолжал: — Так как же? Максим тоже не приедет? — Господин де План тоже уехал в полк, — ответила Шарлотта.
— Вы уже уходите, господин Грелу? — спросил Люсьен, когда я порывисто поднялся с места., — Я сейчас вернусь, — сказал я. — Я забыл письмо у себя на столе…
И я вышел, оставив Шарлотту у постели больного.
Она снова побледнела и потупилась.
Ах, дорогой учитель! Мне хочется, чтобы вы поверили тому, что я сейчас расскажу вам, и чтобы вы не сомневались, что в те минуты я был вполне искренен, несмотря на всю сумятицу моих чувств, которых я сам тогда не мог понять. Мне и самому так необходимо быть в этом уверенным! Я не лгал тогда. Поверьте мне! Не было и капли притворства в том внезапном движении, с каким я вскочил при одном упоминании имени человека, которому Шарлотта должна была принадлежать, уже принадлежала. Не было никакого притворства и в слезах, брызнувших у меня из глаз, едва я переступил порог, и в тех, что я проливал ночью, в полном отчаянье от вдвойне мучительной очевидности, что мы любим друг друга, но никогда, никогда не будем друг другу принадлежать! Не былр притворства и в той боли, которую я испытывал в ее присутствии в последующие дни. Осунувшееся лицо, ставший еще более хрупким силуэт Шарлотты, ее страдальческий взор неотступно были передо гяною и терзали меня; ее бледность раздирала мне сердце, изящные линии тела доводили мою страсть до исступления, но глаза ее умоляли меня: «Ни слова…
Читать дальше