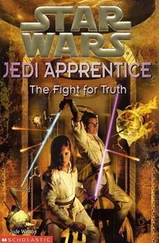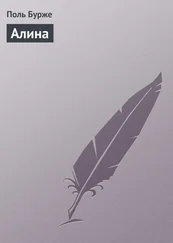Поль Бурже - Ученик
Здесь есть возможность читать онлайн «Поль Бурже - Ученик» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1958, Издательство: Гос. изд. Художественной литературы, Жанр: Классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ученик
- Автор:
- Издательство:Гос. изд. Художественной литературы
- Жанр:
- Год:1958
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ученик: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ученик»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ученик — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ученик», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— Дочь все еще больна… — начал он. — Ничего серьезного… Но у нее странные нервные явления…
Она во что бы то ни стало хочет посоветоваться с парижскими врачами… Вы знаете, она и раньше хворала. Но один врач поставил ее на ноги, и она чувствует к нему особое доверие. Да я и сам не прочь обратиться к нему. Так вот, послезавтра мы с ней уезжаем. Возможно, что затем мы совершим небольшое путешествие, чтобы она чуточку рассеялась… Мне хотелось бы дать вам кое-какиё указания относительно Люсьена на время моего отсутствия. Хотя я очень доволен вами, дорогой Грелу, очень, очень доволен…
Я уже писал Лимассе… Мне повезло, что я нашел такого воспитателя, как вы…
На основании того, что я рассказал вам о своем характере, вы подумаете, дорогой учитель, что эти комплименты весьма польстили мне, — ведь они служили доказательством того совершенства, с каким я играл свою роль, и, успокаивали меня насчет событий последних дней. Но я отнюдь не был польщен. /Мне стало ясно: Шарлотта решила не рассказывать о моей попытке объясниться ей в любви, и я спрашивал себя: почему? Вместо того чтобы истолковать это молчание как благоприятный для меня признак, я заподозрил другое. Я подумал, что она из жалости боится лишить меня куска хлеба, но не из той жалости влюбленной женщины, какую мне хотелось вызвать у нее. Не успел я придумать это объяснение, как оно уже показалось мне убедительным и вместе с тем невыносимым. «Нет, — сказал я сам себе, — этому не бывать. Я не приму милостыни, такое оскорбительное снисхождение мне не нужно… Когда мадемуазель де Жюсса вернется, она уже не застанет меня здесь. Она дает мне понять, как я должен поступить? Ну что ж, я так и поступлю. Ц пытался увлечь ее, но не сумел вызвать даже ее гнева… Пусть же у нее по крайней мере не останется обо мне воспоминания как о лакее, который цепляется за место, невзирая на все обиды…» Надежда на обольщение, которая всю зиму поддерживала меня, окончательно рухнула, и я был так сбит с толку, что в ночь после разговора с маркизом написал письмо той, кого мечтал влюбить в себя. В этом письме я снова просил у нее прощения. «Я понимаю, — писал я, — насколько наши отношения стали теперь невозможными», — и прибавлял, что по возвращении ей уже не придется выносить моего ненавистного присутствия. На другой день утром, в суматохе сборов, я улучил минуту, когда маркиза зачем-то позвала Шарлотту к себе, и бросился в ее комнату.
Я проник туда и положил письмо на ее письменный столик. Среди книг и всяких мелочей, которые она собиралась взять в дорогу, лежал и ее бювар. Я раскрыл его и заметил конверт, на котором было помечено: 12 мая 1886 года… Это была дата рокового объяснения!.. Я взял конверт и приоткрыл его. В нем лежали полузасохшие ландыши. Тут я вспомнил, что во время нашей последней прогулки дал ей несколько особенно крупных стебельков и что она приколола их на груди… Она сохранила эти ландыши! Она не захотела расстаться с ними, несмотря на все, что я ей сказал, а может быть, именно потому, что я это сказал! Об этом свидетельствовала дата на конверте: 12 мая 1886 года.
Не думаю, чтобы мне пришлось еще когда-нибудь испытать волнение, подобное тому, какое охватило меня при виде этого простого конверта. Мое сердце преисполнилось гордости. Да, Шарлотта отвергла меня.
Да, она от меня бежала. Но она любит меня! Передо мною доказательство чувства, о каком я и думать не смел. Я закрыл бювар и вернулся к себе в комнату, опасаясь, как бы она не застала меня здесь. Письмо я не оставил, а тут же уничтожил его. Теперь уже не могло быть и речи о моем отъезде. Нет, теперь надо было дождаться ее возвращения. Тогда я уже ни перед чем не остановлюсь и буду торжествовать победу.
Она меня любит!..

Она любит меня! Итак, эксперимент с обольщением, который я затеял из гордости и любопытства, удался. В этом уже нельзя были сомневаться ни одной минуты, и полученное мною доказательство не только помогло мне перенести отъезд Шарлотты, но привело к тому, что я почти радовался ее временному отсутствию. Бегство ее объяснялось борьбой с собственными чувствами и указывало на их глубину. Кроме того, ее отъезд на несколько недель помогал мне выйти из невероятных затруднений. «В самом деле, — спрашивал я себя, — что же мне делать? Как вести себя, чтобы закрепить и развить этот нежданный успех?» Теперь у меня еще было время подумать об этом в отсутствие ч девушки, которое не могло продолжаться долго, так как в настоящее время Жюсса могли жить только в Оверни. Итак, я на время отложил разработку дальнейшего плана и ходил как хмельной под впечатлением своей победы. А тем временем в замке происходили сборы в дорогу. В день отъезда я, как бы из деликатности, чтобы не стеснять их в последние минуты, попрощался с уезжающими в гостиной и поднялся в свою комнату. Крепкое, дружеское рукопожатие маркиза доказало мне еще раз, как прочно мое положение в этом доме. За подчеркнутой холодностью девушки я угадывал трепет ее сердца, тайну которого она не хотела выдавать. Моя комната была угловой на третьем этаже; окно выходило на двор перед замком. Я спрятался за портьеру, чтобы незаметно наблюдать за тем, как уезжающие будут садиться в экипаж. У подъезда стояла коляска с меховой полстью, запряженная той же гнедою лошадью, что везла в памятный для меня день английский шарабан, и на козлах сидел, как монумент, тот же самый кучер, в коричневой ливрее и с бичом в руке. Показался маркиз, потом Шарлотта. Мне трудно было рассмотреть издали ее лицо, и, когда она подняла вуалетку, чтобы вытереть глаза, я не мог разгадать, что ее так растрогало: последние ли поцелуи матери и брата, или горечь непосильного решения. Но когда экипаж покатил к воротам замка, я отлично видел, что Шарлотта обернулась. Родных уже не было на крыльце.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ученик»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ученик» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ученик» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.