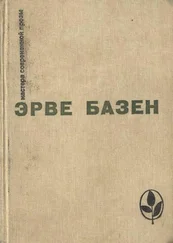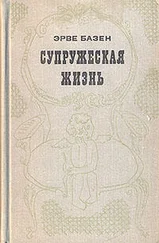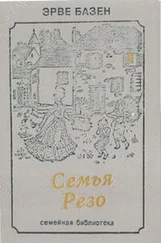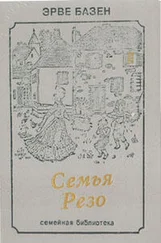— Нет, — сказал он, — убрали только часовых, стоявших вокруг парка, а возле посольского сада по-прежнему не меньше десятка касок. Туда нам не про— браться… Который час?
— Половина двенадцатого, — ответила Мария. — Бедный мой мальчик, придется тебе снова лезть наверх: Легарно могут приехать с минуты на минуту.
Оба вздохнули. И словно натянулась связующая их резина — то был взгляд двух влюбленных, которым предстоит расстаться.
— Я, кажется, не рад их приезду, — заметил Мануэль. — Эти три дня мы жили почти нормальной жизнью.
— Не надо так уж огорчаться, — откликнулась Мария. — То, что происходит сейчас, забудется быстро, главное же, и ты это знаешь, что с нами будет.
Она протянула ему руку, и он увидел спокойное, ласковое, исполненное решимости лицо — такое выражение бывало у нее, наверно, когда она ухаживала за чужими детьми. Что с нами будет … Неопределенное будущее не возместит сегодняшнего счастья, недаром голосу Марии недоставало тепла. Но Мануэль понял это по-своему и, поднявшись на три ступеньки, ласково сказал:
— Прости меня, Мария, мне бы не хотелось, чтобы ты сердилась на меня из-за случайно вырвавшихся слов.
— На тебя, Мануэль?
И она рассмеялась так легко, как не умеют смеяться мужчины, которые придают слишком много значения своим словам.
— Ты имеешь в виду наш сегодняшний спор? Но споры у нас уже бывали, дорогой, и, наверное, будут еще. Мы с тобой — образец компромисса, какого не встретишь в сегодняшнем мире.
— Еще бы! — согласился Мануэль. — Думается, если бы порядки в нынешнем мире были иные, мне не пришлось бы сейчас лезть в свою конуру.
Она приложила два пальца к губам, как бы прося его замолчать и одновременно посылая ему воздушный поцелуй. И, не дожидаясь, пока Мануэль поднимется по лестнице, она, слегка припадая на еще не окрепшую правую ногу, принялась осматривать комнаты, чтобы сдать законным владельцам дом в образцовом порядке.
* * *
А наверху Мануэль, вернувшись на свой теперь одинокий надувной матрас, нервно закурил было сигарету, но тут же спохватился и погасил ее.
Что же они наговорили друг другу после очередного взрыва сладостного неистовства, которым они отпраздновали свое пробуждение? И зачем? В конце праздника, длившегося целых три дня, может, конечно, возникнуть желание оставить отметину, подпустить в мед ложку дегтя. Да уж, глупее не придумаешь… Так что же было? Мария, натягивая белье, мило подшутила над собой, заявив, что чувствует себя раком-отшельником, потому что он забирается куда только может — в старую пустую раковину, например, — лишь бы спрятать нижнюю, не прикрытую панцирем, вечно уязвимую часть своего тела. Чистосердечное признание. Признание, подразумевающее, что она любит эту свою раковину, быть может, слишком твердую, но зато надежную, иначе говоря, любит тот образ жизни, который он должен ценить больше, чем кто бы то ни было, он, который…
Ну нет! Неверное сравнение. Тут все и началось. Сидя на краю постели, даже еще не одевшись, они начали ставить все на свои места — заводить спор о взглядах и вере, сравнивать их достоинства, их силу воздействия… Ну и финал, конечно, получился совсем уж идиотский:
— В конце концов, Мария, почему же искупление, раз оно все искупило, не искоренило в нашем мире угнетение и нищету?
— А почему, Мануэль, ваши друзья могут быть такими жестокими — даже друг к другу, — стремясь внедрить ту модель счастья, которая представляется им верной?
Потрясенная собственным умозаключением, Мария так и осталась с раскрытым ртом, точно слово «счастье» застряло у нее в горле, и, чтобы положить конец разговору, побежала на кухню, а вернувшись, принялась весело болтать всякую ерунду: что велик аллах и наступает рамадан, а потому, кроме чая — притом с умеренным количеством сахара, — ей нечего больше предложить и что она серьезно подумывает, не пойти ли на ближайший базар…
И она бы, наверно, пошла, если бы не звонок Сельмы. Пожевывая потухшую сигарету, Мануэль вдыхал ставший для него теперь родным запах воробьев, слушал их чириканье, их крикливые ссоры, размышлял. Ведь любовь — дитя случая, и нужно время, чтобы эта мысль в тебе улеглась, тем более если ты принадлежишь к той проклятой категории так называемых «серьезных людей», которые, даже когда им хорошо, не без опаски поддаются новому чувству. Последние три дня Мануэль, обостренно, болезненно сознавая, сколь хрупко его счастье, все повторял: «По крайней мере, у меня это было». И тут же: «Но что — это?»
Читать дальше