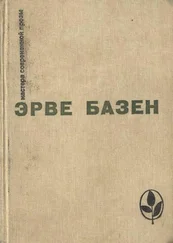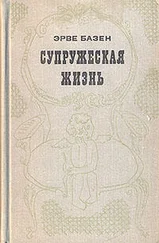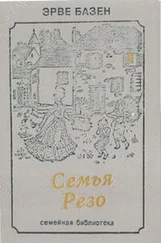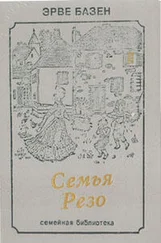Из двенадцати ртов вырывается звук, похожий на выстрел. Жертвы падают — сначала осторожно, а потом, оказавшись на земле, стараются прикинуться настоящими мертвецами: лежат, раскинув руки, разбросав ноги, пытаются не дышать, в то время как командир, шесть раз крикнув «Трах!», поочередно прикладывает к виску каждого револьвер, стреляющий пробками. Но вскоре жертвы не выдерживают и с криком оживают:
— Теперь давайте меняться! А то все время нас расстреливают.
Кипя от негодования, Фиделия уже оттащила Вика, подошла к калитке, достала ключ. Она поднимает глаза и снова вздрагивает, роняет связку ключей, наклоняется за ними, закашливается и только потом отпирает калитку. Уголок занавески успевает упасть, а тень, замеченная Фиделией, — скрыться.
На крышу, звенящую от нескончаемой канонады капель, льет дождь, хотя он совсем не ощущается тут, в убежище, под сухими перекрытиями, точно ожившими благодаря воде, которая стекает по черепице, образуя маленькие водопады, а потом пузырится внизу, в водосточных желобах. У Марии же такое впечатление, будто дождь струится внутри нее и она постепенно тает. Хорошо еще, что ей есть чем отвлечься: она взялась довязать белый шерстяной свитер, начатый Сельмой для сына. Оттопыренные локти, толстые пластмассовые спицы защищают ее, точно иголки ежа, — защищают от Мануэля, который уже с трудом справляется с собой и то сгибается, то разгибается, то вертит в руках клубок ниток, то нечаянно касается плеча Марии.
— Не могу я больше выносить эту клетку, — бурчит он. — В гараже стоят два велосипеда, с каким удовольствием я покатался бы на них с вами!
— Вам что, надоело жить? — спрашивает Мария.
Но это лишь слова, а на самом деле она тоже охотно рискнула бы выйти на улицу. Когда тебя подстегивает опасность и ты находишь прибежище, с каким облегчением ты залезаешь в него, однако скоро обнаруживаешь, что тебя словно бы лишили радостей жизни. И если для своих врагов Мануэль перестал существовать, то для себя он существует по-прежнему. Убежище стало для него тюрьмой — тюрьмой, парадоксально предназначенной для того, чтобы он избежал тюрьмы настоящей и сохранил свободу, которой не сможет пользоваться.
Все еще во власти печали, сердясь на себя саму за эту скорбь и за то, что надеется в конечном счете свою печаль побороть, Мария исступленно вяжет, путаясь в петлях, сожалениях и надеждах. Образы погибших родственников преследуют ее по ночам, оставляя ощущение недоумения и вины. Как решилась она их оставить и, вместо того чтобы исполнить свой последний долг, устремилась вслед за Мануэлем? Как смеет она теперь считать, что, сохранив Мануэля, одного только Мануэля, его величество случай одарил ее величайшей милостью?
— Мария, — шепчет Мануэль; пальцы его, медленно соскользнув с плеча Марии, пытаются развязать теперь узел ее пояса.
Мария отстраняется, но не изображает оскорбленную добродетель. Как винить его в том, что столь тесная близость неизбежно открывает ворота желанию? Как винить его в том, что в минуту полного поражения, зачеркнувшего двадцать лет упорной борьбы, которая, казалось, уже завершилась победой, он стремится хоть в чем-то взять реванш? Она прижалась головой к его щеке. Не хочется, чтобы он думал, будто ему отказывают потому, что он в проигрыше; наоборот, он стал теперь куда ближе ей — ведь она уже три месяца терзается тем, что ничем не обогатила жизнь государственного деятеля, хотя ничего и не отняла. Не хочется, чтобы он считал, будто она так уж гордится тем, чего, впрочем, он не знает и что несказанно удивило Сельму, когда она смущенно предложила Марии таблетки и та — не менее смущенно — призналась, что в них нет необходимости. Не нужно, конечно, слишком завышать себе цену, но и слишком занижать тоже не стоит; просто не хочется уступать вот так, сразу, с первой же попытки. Но не подумает ли Мануэль, что все дело в трауре, в нежелании занять место Кармен, в угрызениях совести?
— Не сердитесь на меня, — говорит Мария, отводя заблудившуюся руку.
* * *
Мануэль выпрямился и отстранился — покорно, но все еще дрожа, чувствуя, как бешено стучит кровь. Он встал на колени возле некоего подобия глазка, который проделал в крыше со стороны улицы: отодрал доску внутренней обшивки и приподнял плитку черепицы, подперев ее деревяшкой. Благодаря этому наблюдательному пункту он знал, кто входит и кто выходит, незримо наблюдал за обходами патруля, оповещавшего о своем приближении печатным шагом, и за сменой часовых, смотрел, как уходят и возвращаются до наступления комендантского часа соседи. Зачастую это служило для него лишь предлогом, чтобы воспользоваться даром зрения и с помощью глаз, более свободных, чем он сам, проникнуть в эту запретную даль, хотя на самом-то деле шпионил он за собой и описывал вполголоса собственное состояние.
Читать дальше