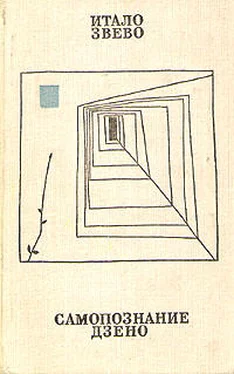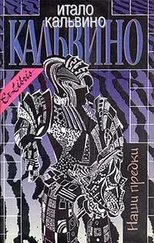Пока же я побежал на почту, чтобы позвонить Аугусте. Но моя вилла не отвечала.
Почтовый служащий, маленький человечек с редкой бородкой (это единственное, что мне в нем запомнилось: она была коротенькая и в то же время жесткая, что вместе создавало впечатление комического упрямства), — так вот, этот почтовый служащий, услышав, как я в ярости сыплю проклятиями в безмолвствующий телефон, подошел ко мне и сказал:
— Это уже в четвертый раз сегодня Лучинико не отвечает.
Когда я обернулся к нему, в его глазах сверкнуло злорадство (нет, значит, я ошибся — еще и это мне в нем запомнилось!). Своим сверкающим взглядом он пытался заглянуть мне в душу, чтобы понять, насколько я изумлен и рассержен. Прошло минут десять, прежде чем я наконец понял. И тогда у меня исчезли последние сомнения. Лучинико уже был — или вот-вот должен был оказаться — на линии огня. Когда я до конца понял, чт оозначает этот красноречивый взгляд, я направился в кафе, чтобы в ожидании завтрака выпить чашку кофе, причитавшуюся мне еще утром. Но по дороге свернул в сторону и направился к вокзалу. Мне хотелось быть как можно ближе к семье, и, следуя указаниям моего приятеля капрала, я отправился в Триест.
И как раз во время этого моего короткого путешествия разразилась война.
Желая поскорее оказаться в Триесте, я даже не выпил на вокзале в Гориции вожделенной чашки кофе, хотя время у меня было. Я сразу вошел в вагон и, оставшись наконец один, мысленно устремился к своим близким, от которых меня отрезали таким странным образом. Поезд шел нормально до Монтефальконе.
Видимо, сюда война еще не добралась, и я успокоился, решив, что, по-видимому, и в Лучинико события разворачиваются так же, как по эту сторону границы. В этот час Аугуста с детьми, наверное, уже находится в пути, направляясь в центральные области Италии. И это спокойствие вместе с тем поразительным, глубочайшим спокойствием, которое является обычно следствием голода, погрузили меня в длительный сон.
Но тот же голод, по всей вероятности, меня и разбудил. Поезд стоял посреди так называемой триестинской Саксонии. Моря, хотя оно должно было быть совсем близко, не было видно: легкий туман ничего не давал разглядеть. В майском Карсо есть своя прелесть, но понять ее может только тот, кто не избалован другими веснами — веснами, сверкающими красками и жизнью. Камни, которые здесь на каждом шагу выступают из земли, окружены робкой зеленью, в которой, однако, нет ничего жалкого, поскольку скоро она должна будет стать доминирующей нотой пейзажа.
В другое время меня бы страшно рассердило то, что мне, такому голодному, нечем утолить голод. Но в тот день мне внушало почтение величие исторического события, свидетелем которого я был, и я смирился. Я подарил кондуктору несколько сигарет, но он не смог раздобыть мне даже куска хлеба. Я никому не сказал о том, что мне пришлось пережить в это утро. Я решил, что расскажу об этом в Триесте какому-нибудь близкому человеку. Я прислушался, но с границы, которая была рядом, не доносилось звуков сражения. Мы остановились только для того, чтобы пропустить не то восемь, не то девять железнодорожных составов, которые, извиваясь, сползали с гор к Италии. Гангренозная рана, как в Австрии сразу стали называть итальянский фронт, открылась и требовала материала для того, чтобы питать свой гнойник. И несчастные солдаты ехали туда, злобно смеясь и распевая песни. Из всех поездов доносились одни и те же звуки, свидетельствующие о пьяном веселье.
Когда я приехал в Триест, на город уже опустилась ночь. Она была освещена огнем множества пожаров, и один мой приятель, который увидел, как я иду себе без пиджака и в рубашке с засученными рукавами, крикнул:
— Ты что, никак мародерствовал?
Наконец-то я смог что-то съесть и отправиться спать.
Глубокая, настоящая усталость толкала меня в постель. Наверное, я устал от борьбы, которую вели у меня в голове надежды и сомнения. Чувствовал же я себя по-прежнему хорошо, и в тот короткий предшествующий сну период, образы которого я научился удерживать в памяти с помощью психоанализа, мне пришла в голову последняя в этот день, детски-оптимистическая мысль: на границе пока никто не убит, а значит, мир еще можно спасти.
Сейчас, когда я знаю, что семья моя жива и здорова, я не могу сказать, что мне не нравится жизнь, которую я веду. Дел у меня не много, но и утверждать, что я ничего не делаю, тоже нельзя. Мне не приходится ни покупать, ни продавать. Торговля оживет только тогда, когда восстановится мир. Оливи прислал мне из Швейцарии кое-какие указания. Если бы он знал, каким диссонансом звучат его советы среди окружающей меня жизни, такой непохожей на прежнюю! Покуда я не делаю ничего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу