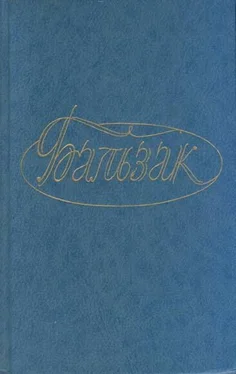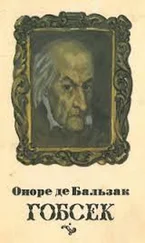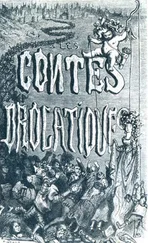Радостно Кастанье направился к бирже, думая, что приторгует себе душу, как заключают сделку на государственные процентные бумаги. Всякий обыватель побоялся бы, не подымут ли его на смех, но Кастанье знал по опыту, что человек отчаявшийся все принимает всерьез. Как приговоренный к смертной казни выслушает сумасшедшего, когда тот будет ему говорить, что, произнеся бессмысленные слова, можно улететь сквозь замочную скважину, — так и страдающий человек становится легковерным и отвергает какой-нибудь замысел только в случае полной его неудачи, подобно пловцу, уносимому течением, который отпускает веточку прибрежного куста, если она оторвется. К четырем часам дня Кастанье появился среди людей, которые по окончании котировки государственных бумаг собираются в группы, заключая сделки на частные бумаги и производя операции чисто коммерческие. Дельцы его знали, и он, прикинувшись, что кого-то разыскивает, мог подслушивать, не говорят ли где о людях, запутавшихся в делах.
— Ни за что, милый мой! Бумагами Клапарона и компании не занимаюсь. Банковский рассыльный унес сегодня обратно все их векселя, — бесцеремонно сказал кому-то толстяк-банкир. — Если у тебя они есть, забудь о них.
Упомянутый Клапарон вел во дворе оживленную беседу с господином, про которого было известно, что он учитывает векселя из ростовщических процентов. Тотчас же Кастанье направился к Клапарону, биржевику, известному тем, что он ставил крупные куши, рискуя или разориться, или разбогатеть.
Когда Кастанье подошел к Клапарону, с ним только что расстался ростовщик, и у спекулянта вырвался жест отчаяния.
— Итак, Клапарон, вам сегодня вносить в банк сто тысяч франков, а теперь уже четыре часа: значит, времени нехватит даже на то, чтобы подстроить банкротство, — сказал ему Кастанье.
— Милостивый государь!
— Потише, — продолжал кассир. — А что, если я вам предложу одно дельце, которое даст вам потребную сумму?..
— Оно не даст мне покрыть мои долги, — ведь не бывает таких дел, которые можно состряпать сразу.
— А я знаю дельце, которое покроет их сию же минуту, — ответил Кастанье, — только оно потребует от вас…
— Чего?
— Продажи вашего места в раю. Чем это дело хуже других? Все мы акционеры великого предприятия вечности.
— Известно ли вам, что я могу дать вам пощечину? — сказал Клапарон, рассердившись. — Позволительно ли так глупо шутить с человеком, когда он в беде!
— Говорю вполне серьезно, — отвечал Кастанье, вынимая из кармана пачку банковых билетов.
— Имейте в виду, — сказал Клапарон, — я не продам свою душу дьяволу за гроши. Мне необходимо пятьсот тысяч франков, чтобы…
— Кто же станет скаредничать? — прервал его Кастанье. — Вы получите столько золота, что оно не вместится в подвалы банка.
Он протянул огромную пачку билетов, убедительно подействовавшую на спекулянта.
— Ладно! — сказал Клапарон. — Но как это устроить?
— Пойдемте вон туда, там никого нет, — ответил Кастанье, указывая на уголок двора.
Клапарон и его соблазнитель обменялись несколькими фразами, уткнувшись в стену. Никто из наблюдавших за ними не догадался о теме их секретной беседы, хотя все были живо заинтригованы странной жестикуляцией обеих договаривавшихся сторон. Когда Кастанье вернулся, гул изумления вырвался у биржевиков. Как на французских званых вечерах, где малейшее событие привлекает общее внимание, все обратили взор на двух людей, вызвавших этот гул, и не без ужаса увидали происшедшую в них перемену. На бирже все прохаживаются и беседуют, каждый участник этого сборища всем знаком, за каждым наблюдают, — ведь биржа — подобие стола, за которым играют в бульот, причем люди опытные всегда угадают по физиономии человека, каковы его игра и состояние кассы. Итак, все обратили внимание на лицо Клапарона и лицо Кастанье. Последний, подобно ирландцу, был мужчиной жилистым и крепким, глаза его сверкали, цвет лица отличался яркостью. Всякий дивился его лицу, величественно ужасающему, спрашивая себя, откуда оно взялось у добродушного Кастанье; но, лишившись власти, Кастанье сразу увял, покрылся морщинами, постарел, одряхлел. Когда он уводил Клапарона, он похож был на горячечного больного или же наркомана, который довел себя опиумом до экстаза; а возвращался он осунувшийся, точно после приступа горячки, когда больной готов испустить дух, или словно в состоянии ужасной прострации от злоупотребления наркотиками. Адское одушевление, позволявшее ему переносить разгульную жизнь, исчезло: тело, лишившись его, оказалось истощенным, без помощи и опоры против угрызений совести и тяжести истинного раскаяния. Напротив, когда появился Клапарон, тревоги которого ни для кого не составляли тайны, его глаза сверкали, а на лице была запечатлена гордость Люцифера. Банкротство перешло с одного лица на другое.
Читать дальше