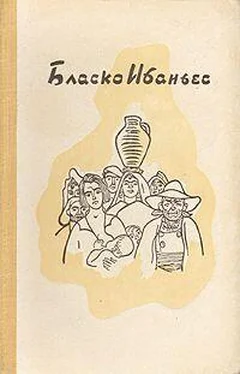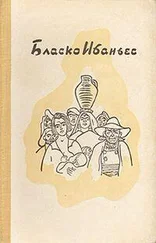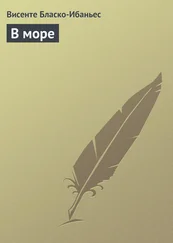Очарованная его страстными словами, Луна тмъ не мене сдлала печальное лицо.
— Дитя! — пробормотала она съ андалузскимъ акцентомъ. — Сколько сладкой лжи! Но вдь это всетаки ложь! Какъ можемъ мы обвнчаться? Какъ все это устроится? Или ты примешь мою вру?
Агирре остановился отъ удивленія и изумленными глазами посмотрлъ на Луну.
— Бога ради! Чтобы я сталъ евреемъ!
Онъ не былъ образцомъ врующаго. Жизнь оиъ провелъ, не придавая особеннаго значенія религіи. Онъ зналъ, что на свт существуютъ разныя вры, но въ его глазахъ католики были, безъ сомннія, лучшими людьми. Къ тому же его могущественный дядя, подъ страхомъ гибели карьеры, совтовалъ ему не смяться надъ подобными темами.
— Нѣтъ! Я не вижу въ этомъ необходимости. Но должно же быть средство выйти изъ этого затруднительнаго положенія. Я еще не знаю, какое, но, несомнѣнно, оно должно существовать. Въ Парижѣ я зналъ очень видныхъ людей, женатыхъ на женщинахъ твоего народа. He можетъ быть, чтобы этого нельзя было устроить. Я убѣжденъ, все устроится. Да, вотъ идея! Завтра утромъ, если хочешь, я пойду къ великому раввину, «духовному вождю», какъ ты выражаешься. Онъ, кажется, добрый господинъ. Я видѣлъ его нѣсколько разъ на улицѣ. Кладезь премудрости, какъ утверждаютъ твои. Жаль, что онъ такой грязный и пахнетъ прогорклой святостью. He дѣлай такого лица! Впрочемъ это пустяки. Нужно только немного щелока, и все обойдется. Ну, не сердись. Этотъ добрый сеньоръ мнѣ очень симпатиченъ, съ его козлиной бѣлой бородкой и слабенькимъ голоскомъ, точно доносящимся изъ другого міра. Повторяю, я пойду къ нему и поговорю съ нимъ: «Сеньоръ раввинъ! — скажу я ему. — Я и Луна, мы любимъ другъ друга и хотимъ жениться, не такъ какъ женятся евреи, по договору и съ правомъ потомъ раскаяться, а на всю жизнь, во вѣки вѣковъ. Соедините насъ узами съ головы до пятъ. Никто ни на небѣ ни на землѣ не сможетъ насъ разъединить. Я не могу измѣнить своей религіи, ибо это было бы низостью, но клянусь вамъ, что при всей моей приверженности къ христіанству Луна будетъ пользоваться большимъ вниманіемъ, лаской и любовью, чѣмъ если я былъ бы Мафусаиломъ, царемъ Давидомъ, пророкомъ Аввакумомъ или кѣмъ-нибудь другимъ изъ тѣхъ х_в_а_с_т_у_н_о_в_ъ, о которыхъ говорится въ Священномъ Писаніи».
— Молчи, несчастныйі — прервала его еврейка съ суеврнымъ страхомъ, закрывая ему одной рукой ротъ, чтобы помшать дальше говорить. — Замкни свои уста, гршникъ!
— Хорошо, я замолчу, но я убжденъ, что какъ-нибудь это устроится. Или ты думаешь, что кто-нибудь сможетъ насъ разъединить посл такой искренней, такой долгой любви!
— Такой долгой любви! — повторила Луна, какъ эхо, вкладывая въ эти слова серьезное выраженіе.
Замолчавъ, Агирре, казалось, былъ поглощенъ очень трудными вычисленіями.
— По меньшей мр мсяцъ прошелъ! — сказалъ онъ наконецъ, какъ бы удивляясь, сколько съ тхъ поръ прошло времени.
— Мсяцъ, нтъ! — возразила Луна. — Гораздо, гораздо больше!
Онъ снова погрузился въ размышленія.
— Врно. Больше мсяца. Вмст съ сегодняшнимъ тридцать восемь дней. И мы видимся каждый день. И съ каждымъ днемъ любимъ другъ друга все больше!
Оба шли молча, опустивъ головы, какъ будто поглощенные мыслью объ огромной продолжительности ихъ любви. Тридцать восемь дней!
Агирре вспомнилъ полученное вчера вечеромъ отъ дяди письмо, исполненное удивленія и негодованія. Уже два мсяда онъ находится въ Гибралтар и не думаетъ отплыть! Что это у него за болзнь? Если онъ не желаетъ занять свое мсто, пусть возвращается въ Мадридъ. И невозможность настоящаго положенія, необходимость расторгнуть узы этой любви, постепенно овладвшей имъ, вдругь представились ему со всей ихъ настоятельностью и тяжестью.
Луна продолжала итти, склонивъ голову и шевеля пальцами одной руки, словно считая.
— Да, врно! Тридцать восемь дней. Боже. мой! Какъ могъ ты такъ долго меня любить. Меня! Старуху!
И такъ какъ Агирре посмотрлъ на нее съ удивленіемъ, она меланхолически прибавила:
— Ты же знаешь… Я не скрываю отъ тебя… Мн двадцать два года. Многія двушки моего народа выходятъ замужъ четырнадцати лтъ!
Ея грусть была искренна. To была грусть восточной женщины, привыкшей видть молодость только въ половой зрлости, немедленно же находящей удовлетвореніе.
— Часто я не могу понять, какъ ты можешь меня любить. Я такъ горжусь тобой! Моикузины, чтобы позлить меня, стараются отыскать у тебя недостатки и не могутъ. He могутъ! Недавно ты проходилъ мимо моего дома, когда я стояла за ставнями съ Миріамъ, которая была моей кормилицей, съ еврейкой изъ Марокко, изъ тхъ, что носятъ платокъ на ше и халатъ. «Посмотри, Миріамъ, — говорю я ей — какой красавецъ идетъ изъ нашихъ». — А Миріамъ покачала толовой. — «Еврей! Нтъ, ты говоришь не правду. Онъ идетъ выпрямившись, ступаетъ по земл твердой ногой, а наши ходятъ робко, согнувъ ноги, какъ будто хотятъ стать на колни. У него зубы, какъ у волка, а глаза, какъ кинжалы. Онъ не склоняетъ внизъ ни головы, ни взора!». Да, таковъ ты. Миріамъ н ошиблась. Ты не похожъ на мужчинъ моей крови. Не то, чтобы они не были мужественны. Среди нихъ есть сильные, какъ Маккавеи. Массена, одинъ изъ генераловъ Наполеона, былъ еврей. Но преобладающимъ въ нихъ чувствомъ, подавляющимъ въ нихъ гнвъ, является все же смиреніе, покорность. Насъ такъ много преслдовали! Вы росли совсмъ въ другихъ условіяхъ.
Читать дальше