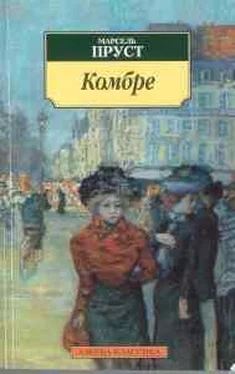Перешли в "кабинет", и дядя, которого явно стесняло мое присутствие, предложил ей папиросы.
— Нет, дорогой, — отвечала она, — вы же знаете, я привыкла к тем, которые мне посылает великий герцог. Я ему говорила, что вы приревнуете. — И она извлекла из портсигара папиросы с надписями золотыми буквами на иностранном языке. — Да нет, — воскликнула она внезапно, — все-таки я встречала у вас отца этого молодого человека! Он же ваш племянник? Как я могла забыть? Какая в нем доброта, какое очарование! — прибавила она со скромным и растроганным видом. Но я подумал о том, как сурово, скорее всего, обошелся с ней отец, в котором она якобы оценила очарование, — уж я-то знал и замкнутость отца, и его холодный тон, — и это несоответствие между преувеличенной благодарностью к нему и недостатком любезности с его стороны обдало меня стыдом, словно отец поступил бестактно. Позже мне показалось, что в этом состоит одно из трогательных свойств той роли, которую играют эти праздные и трудолюбивые женщины: они все подчиняют одной цели — свое великодушие, талант, припрятанные про запас мечты сентиментальной красавицы (ведь они, точно как артистки, не воплощают в жизнь эти мечты, не втискивают их в рамки обыденности), да и золото, которое обходится им недорого, и эта цель — украшать драгоценной и утонченной оправой грубую и топорно сработанную жизнь мужчины. Вот так и эта, в курительной, где дядя принимал ее, одетый по-домашнему, расточала свое нежное тело, розовое шелковое платье, жемчуга и эту элегантность, которой веяло от дружбы с великим герцогом, и едва она прикоснулась к нескольким незначащим словам моего отца, как тут же осторожно и тонко обработала их, придала им завершенность, драгоценное название, и оправила их взглядом такой чистой воды, с таким оттенком смирения и благодарности, что они превратились в чудо ювелирного искусства, в нечто "совершенно очаровательное".
— Ну ладно, будет, — сказал мне дядя, — тебе пора.
Я встал, мне неодолимо хотелось поцеловать руку даме в розовом, но я воображал, что это была бы дерзость, вроде похищения. Сердце мое билось, пока я гадал: "Поцеловать или не надо?" — но потом я вообще перестал раздумывать, иначе я бы вообще ничего не сделал. И слепым безрассудным движением, отмахнувшись от всех доводов, еще секунду тому назад подтверждавших правильность моего поступка, я поднес к губам руку, которую она мне протянула.
— Какой он милый! И уже галантен, на женщин поглядывает: весь в дядю. Он будет настоящим джентльменом, — добавила она, стиснув зубы, чтобы придать сказанному легкий британский акцент. — А нельзя ли, чтобы он как-нибудь заглянул ко мне выпить а сир of tea, как говорят наши соседи англичане? Пускай только предупредит меня утром письмецом по пневматичке [80] ...письмецом по пневматичке. — Имеется в виду пневматическая почта, которая существовала в Париже с 1866 г. и сначала связывала между собой почтовые отделения; с 1879 г. ею уже могли пользоваться все желающие.
.
Я не знал, что такое "пневматичка". Я не понимал половины слов, которые произносила дама, но боялся, что среди них прячется какой-нибудь вопрос, на который было бы невежливо не ответить, поэтому продолжал внимательно вслушиваться и от этого сильно устал.
— Нет, об этом не может быть и речи, — сказал дядя, пожимая плечами, — он занят, много работает. Он у себя в классе получает все награды, -добавил он, понизив голос, чтобы я не слышал этой лжи и не принялся ее опровергать. — Кто знает, может быть, это будет новый Виктор Гюго, знаете, или какой-нибудь Волабель [81] Ашиль Тенай де Волабель (1799—1879) — журналист, политический деятель, историк, автор шеститомного труда "История двух Реставраций вплоть до воцарения Луи Филиппа" (1844). В описываемые времена считался образцовым автором для юношества: Симона де Бовуар, например, называет его в своих "Воспоминаниях благовоспитанной девицы" в числе любимых писателей.
.
— Я преклоняюсь перед людьми искусства, — подхватила дама в розовом, только они и понимают женщин... Они да немногие избранные вроде вас. Простите мое невежество, друг мой. Кто такой Волабель? Это не те тома с позолотой в застекленном книжном шкафу у вас в будуаре? Помните, вы обещали дать их мне почитать, я буду обращаться с ними очень бережно.
Дядя, ненавидевший давать книги, ничего не ответил и повел меня в переднюю. Вне себя от любви к даме в розовом, я покрыл безумными поцелуями пропахшие табаком щеки моего старенького дяди, и пока он с изрядной неловкостью, не решаясь сказать прямо, намекал мне, что ему бы, в сущности, не хотелось, чтобы я рассказывал об этом визите родителям, я объявил ему, со слезами на глазах, что память о его доброте пребудет со мной вечно и что рано или поздно придет день, когда я сумею на деле доказать ему свою благодарность. И впрямь, благодарность так прочно запечатлелась у меня в душе, что спустя два часа я сперва проронил при родителях одну — другую загадочную фразу, но мне показалось, что мои слова недостаточно внятно объясняют, каким новым величием я отныне осенён, и тогда я решил, для большей ясности, рассказать в малейших подробностях о моем недавнем визите. У меня и в мыслях не было доставить этим неприятности дяде. С какой стати, я же этого совсем не хотел. И я понятия не имел, что родители не одобрят визит, в котором я сам не видел ничего плохого. Разве не случается сплошь и рядом, что какой-нибудь друг просит нас непременно передать его извинения общей знакомой, которой он сам не может написать из-за каких-то помех, а мы пренебрегаем этой просьбой, потому что сами не придаем значения его молчанию, а значит, думаем мы, и для этой знакомой оно не может быть важным. Я, как все, воображал, что чужой мозг — это пустой и послушный сосуд, что он не способен как-то по-своему откликаться на то, чем его наполняют; я и не подозревал, что, внедряя в головы родителей известие о том, с кем я познакомился у дяди, не сумею одновременно, как мне хотелось, передать им благоприятное суждение об этом знакомстве, которое вынес я сам. К несчастью, родители, оценивая дядин поступок, опирались на совершенно иные принципы, чем те, которые я пытался им внушить. Отец и дедушка гневно с ним объяснились; мне об этом стало известно стороной. Несколько дней спустя я на улице повстречал дядю, ехавшего в открытом экипаже, и на меня нахлынули горе, благодарность, угрызения совести, в которых я так хотел бы ему признаться. Рядом с их огромностью, понял я, простой поклон покажется жалким, и дядя может подумать, что я считаю, будто мой долг перед ним сводится к банальной вежливости. Я решил воздержаться от этого бесполезного жеста и отвернулся. Дядя подумал, что я это сделал по указу родителей, и так и не простил им этого; ни с кем из нас он больше не виделся до самой смерти, а умер он годы спустя.
Читать дальше