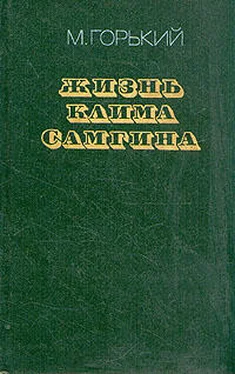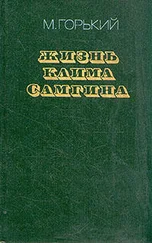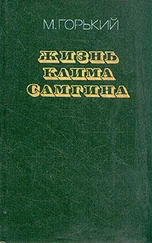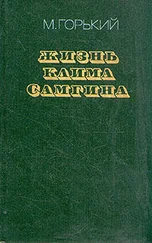– Я его знаю.
И больше ничего не говорил, очевидно, полагая, что в трех его словах заключена достаточно убийственная оценка человека. Он был англоманом, может быть, потому, что пил только «английскую горькую», – пил, крепко зажмурив глаза и запрокинув голову так, как будто хотел, чтобы водка проникла в затылок ему.
Другой актер был не важный: лысенький, с безгубым ртом, в пенснэ на носу, загнутом, как у ястреба; уши у него были заячьи, большие и чуткие. В сереньком пиджачке, в серых брючках на тонких ногах с острыми коленями, он непоседливо суетился, рассказывал анекдоты, водку пил сладострастно, закусывал только ржаным хлебом и, ехидно кривя рот, дополнял оценки важного актера тоже тремя словами:
– Он был алкоголик.
Уверял, что пишет «Мемуары ночной птицы», и объяснял:
– Ночная птица – это я, актер. Актеры и женщины живут только ночью. Я до самозабвения люблю все историческое.
И, подтверждая свою любовь к истории, он неплохо рассказывал, как талантливейший Андреев-Бурлак пропил перед спектаклем костюм, в котором он должен был играть Иудушку Головлева, как пил Шумский, как Ринна Сыроварова в пьяном виде не могла понять, который из трех мужчин ее муж. Половину этого рассказа, как и большинство других, он сообщал шопотом, захлебываясь словами и дрыгая левой ногой. Дрожь этой ноги он ценил
довольно высоко:
– Такая судорога была у Наполеона Бонапарта в лучшие моменты его жизни.
Клим Самгин привык измерять людей мерою, наиболее понятной ему, и эти два актера окрашивали для него в свой цвет всех друзей дяди Хрисанфа.
Человеком, сыгравшим свою роль, он видел известного писателя, большебородого, коренастого старика с маленькими глазами. Создавший себе в семидесятых годах славу идеализацией крестьянства, этот литератор, хотя и не ярко талантливый, возбуждал искреннейший восторг читателей лиризмом своей любви и веры в народ. Славу свою он пережил, а любовь осталась все еще живой, хотя и огорченной тем, что читатель уже не ценил, не воспринимал ее. Обиженный этим, старик ворчливо поругивал молодых литераторов, упрекал их в измене народу.
– Всё – Лейкины, для развлечения пишут. Еще Короленко – туда-сюда, но – тоже! О тараканах написал. В городе таракан – пустяк, ты его в деревне понаблюдай да опиши. Вот – Чехова хвалят, а он фокусник бездушный, серыми чернилами мажет, читаешь – ничего не видно. Какие-то всё недоростки.
Его особенно, до злого блеска в глазах, раздражали марксисты. Дергая себя за бороду, он угрюмо говорил:
– Недавно один дурак в лицо мне брякнул: ваша ставка на народ – бита, народа – нет, есть только классы. Юрист, второго курса. Еврей. Классы! Забыл, как недавно сородичей его классически громили...
Довольный незатейливым и мрачным каламбуром, он так ухмыльнулся, что борода его отодвинулась к ушам, обнажив добродушный, тупенький нос.
Двигался он тяжело, как мужик за сохою, и вообще в его фигуре, жестах, словах было много мужицкого. Вспомнив толстовца, нарядившегося мужиком, Самгин сказал Макарову:
– Искусно он играет.
Но Макаров поморщился и возразил:
– Не нахожу, что играет. Может быть, когда-то он усвоил все эти манеры, подчиняясь моде, но теперь это подлинное его. Заметь – он порою говорит наивно, неумно, а все-таки над ним не посмеешься, нет! Хорош старик! Личность!
Выпив водки, старый писатель любил рассказывать о прошлом, о людях, с которыми он начал работать. Молодежь слышала имена литераторов, незнакомых ей, и недоумевала, переглядывалась:
– Наумов, Бажин, Засодимеквй, Левитов...
– Ты читал таких? – спросил »Клим Макарова.
– Нет. Из двух Успенских – Глеба читал, а что был еще Николай – впервые слышу. Глеб – сочинитель истерический. Впрочем, я плохо понимаю беллетристов, романистов и вообще – истов. Неистов я, – усмехнулся он, но сейчас же хмуро слазал:
– Боюсь, что они Лидию в политику загонят... Макаров бывал у Лидии часто, но сидел недолго; с нею он говорил ворчливым тоном старшего брата, с Варварой – небрежно и даже порою глумливо, Маракуева и Пояркова называл «хористы», а дядю Хрисанфа – «угодник московский». Все это было приятно Климу, он уже не вспоминал Макарова на террасе дачи, босым, усталым и проповедующим наивности.
Был еще писатель, автор пресных рассказов о жизни мелких людей, страдающих от маленьких несчастий. Макаров называл эти рассказы «корреспонденциями Николаю Чудотворцу». Сам писатель тоже небольшого роста, плотненький, с дурной кожей на лице, с черноватой, негустой бородкой и недобрыми глазами. Чтоб смягчить их жесткий взгляд, он неопределенно и насильственно улыбался, эта улыбка, сморщивая темненькое лицо, старила его. Трезвый, он говорил мало, осторожно, с большим вниманием рассматривал синеватые ногти свои и сухо покашливал в рукав пиджака, а выпив, произносил, почти всегда невпопад, многозначительные фразы:
Читать дальше