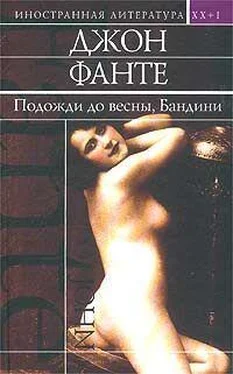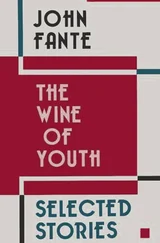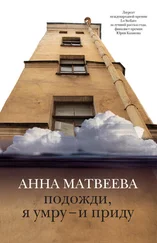Она была Марией, и печка любила только ее. Стоило Артуро или Августу закинуть ей в жадную пасть кусок угля, как печь сходила с ума от собственной лихорадки, краска на стенах пузырилась волдырями, а сама она пылала, пугающе пожелтев, – обломок ада шипел, зовя Марию, и та приходила хмуро и умело, с тряпкой в руке, подправляла тут и там, проворно задвигала вьюшки, перетряхивала все ее нутро, пока печь не возвращалась в свою нормальную глупую колею. Мария с руками не больше потрепанных розочек – а эта черная дьяволица была ее рабыней и взаправду нравилась Марии. Та чистила ее до блеска, до порочных искорок, и никелированная пластинка с торговой маркой злобно скалилась, словно зев, слишком гордясь прекрасными зубами.
Когда языки пламени наконец поднялись и печь простонала свое «доброе утро», Мария поставила воду для кофе и вернулась к окну. Свево стоял возле курятника, отдуваясь и опираясь на лопату. Наседки повылазили из сарая, квохтали, поглядывая на него – человека, способного поднять упавшие белые небеса с земли и перекинуть их через забор. Но из окошка было видно, что слишком близко от него куры не прогуливались. И она знала почему. Это были ее куры; они ели у нее из рук, а его терпеть не могли; они помнили – он тот, кто приходит субботними вечерами убивать их. Но это ничего; они очень благодарны, что он расчистил снег и они могут теперь ковыряться в земле, они это ценили, но доверять ему, как женщине, что приносила кукурузу, капавшую с ладошек, не могли. И со спагетти в тарелке тоже; они целовали ее своими клювиками, когда она приносила им спагетти; а этот мужчина – дело опасное.
Детей звали Артуро, Август и Федерико. Они уже проснулись, глаза карие и ярко омытые черной рекою сна. Все они спали в одной кровати, Артуро – двенадцать, Августу – десять, а Федерико – восемь. Итальянские мальчишки, дурачатся, трое в постели, с быстрыми особенными смешочками непристойностей. Артуро, тот уже много знал. Теперь он рассказывал им то, что знал, а слова выходили у него изо рта белым жарким паром в холодной комнате. Он много знал. Он много видел. Он знал много. Вы, ребятки, не знаете того, что видел я. Она сидела на крыльце. А я от нее вот так стоял. И видел много чего. Федерико, восемь лет.
– А чё ты видел, Артуро?
– Закрой рот, простофиля. Мы не с тобой разговариваем!
– Я никому не скажу, Артуро.
– Ах, заткнись. Ты еще маленький!
– Тогда скажу.
Тут они объединили силы и скинули его с кровати. Он ударился об пол, захныкал. Холодный воздух обхватил его своей внезапной яростью и всадил в тело сразу десять тысяч иголок. Он взвизгнул и попытался снова забраться под одеяло, но те были сильнее, и он рванул через всю комнату в спальню к маме. Та как раз натягивала хлопчатобумажные чулки. Он испуганно орал:
– Они меня вытолкнули! Это Артуро. И Август тоже!
– Ябеда! – завопили из соседней комнаты.
Он был для нее так красив, этот Федерико; и кожа его казалась такой прекрасной. Она подняла его на руки и потерла ему спину, пощипала за маленькую прекрасную попку, сжимая покрепче, вталкивая в него тепло, а он подумал о ее запахе – интересно, чем она пахнет, и как это хорошо утром.
– Поспи в маминой кроватке, – сказала она.
Он быстренько забрался туда, и она подоткнула одеяло так, что он весь затрясся от восторга, так обрадовавшись, что лежит на маминой стороне постели, а его голова – в гнездышке, оставленном мамиными волосами, потому что ему не нравилась папина подушка; та была какой-то кислой и крепкой, а мамина пахла сладко, и он от нее весь согревался.
– А я еще что-то знаю, – сказал Артуро. – Но не скажу.
Августу было десять; он соображал немного. Конечно, он знал больше, чем его негодяйский братец Федерико, но далеко ему до брата, лежавшего рядышком, Артуро, который много чего знал про женщин и про все остальное.
– Что ты мне дашь, если я тебе скажу? – спросил Артуро.
– Дам тебе свой никель на молоко.
– Никель на молоко! Какого черта? Кому нужен никель на молоко зимой?
– Тогда летом дам.
– Фигушки. Что ты мне сейчас дашь?
– Все, что хочешь у меня.
– Лады. А что у тебя есть?
– Ничего нет.
– Ладно. Тогда и я ничего не продаю.
– Тебе все равно нечего рассказывать.
– Черта с два нечего!
– Скажи за так.
– За так не бывает.
– Потому что ты врешь, вот почему. Ты врун.
– Не называй меня вруном!
– Ты врун, если не скажешь. Врун!
Он был Артуро, и ему стукнуло четырнадцать. Вылитый отец в миниатюре, только без усов. Верхняя губа у него изгибалась с такой нежной жестокостью. Веснушки роились по всему лицу, как муравьи на куске торта. Он был старше всех и считал себя довольно крутым – и никакому братцу-щеглу не сойдет с рук называть его вруном. Через пять секунд Август уже корчился. Артуро под одеялом навалился ему на ноги.
Читать дальше