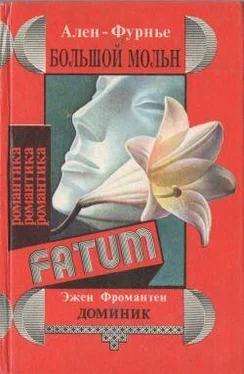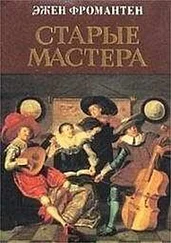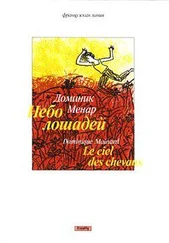Он пожал мне руку с истинно мужской властностью и одним прыжком очутился на лестнице, которая вела к нему в комнату.
Тогда я спустился в сад, где старый Андре полол куртины.
– Что случилось, мсье Доминик? – спросил Андре, видя мое смятение.
– Что случилось, мой добрый Андре? Да только то, что через три дня я еду поступать в коллеж.
И я убежал в дальнюю часть парка, где пропадал до самого вечера.
Три дня спустя в обществе госпожи Сейсак и Огюстена я уезжал из Осиновой Рощи. Уезжали мы утром, в очень ранний час. Весь дом был на ногах. Слуги толпились вокруг нас. Андре держал лошадей под уздцы, таким грустным я не видел его со дня последнего события, одевшего весь дом в траур; потом он сел на козлы, хотя обычно никогда не правил, и с места пустил лошадей крупной рысью. Когда мы проезжали через Вильнёв, где все лица были мне так знакомы, я заметил двоих или троих товарищей моих детских игр; теперь это были взрослые парни, почти мужчины, они направлялись в поля с мотыгой на плече. Заслышав стук колес, они обернулись и, догадываясь, что мы собрались дальше, чем просто на прогулку, приветливо помахали мне, желая счастливого пути. Всходило солнце. Мы ехали среди полей и лугов. Я перестал узнавать места, лица прохожих были мне незнакомы. Тетушка не сводила с меня глаз, взгляд ее был полон доброты. Огюстен сиял. Я был почти столь же растерян, сколь опечален.
Нам понадобился целый день, чтобы проехать двенадцать миль, отделяющих Вильнёв от Ормессона, и солнце клонилось к закату, когда Огюстен. пристально глядевший в окно, сказал тетушке:
– Сударыня, отсюда уже видны башни церкви святого Петра.
Местность была плоская, блеклая, заболоченная, унылая. Приземистый город, ощетинившийся церковными колокольнями, уже вырисовывался за сетью ивняка. Болота чередовались с лугами, белесые вербы – с желтеющими тополями. Справа текла река, грузно перекатывая мутные воды между илистыми берегами. На отмелях и в тростниках, клонившихся по течению, стояли на приколе лодки, груженные досками, и старые баржи, глубоко осевшие в тину, словно им никогда не было дано держаться на воде. Гуси лугами ковыляли к реке, с хриплыми криками метались перед нашим экипажем. Нездоровые туманы ложились на крохотные хутора, которые виднелись вдалеке среди полей конопли и по берегам каналов, и от сырости, уже не имевшей привкуса моря, меня пробирал озноб, как от сильного холода. Экипаж въехал на мост, и лошади замедлили шаг; затем он покатился по бульвару, погруженному в полную темноту, и звонкое цоканье копыт по мостовой сообщило мне, что мы в городе. Я прикинул, что от момента отъезда меня уже отделяют двенадцать часов, что двенадцать миль отделяют меня от Осиновой Рощи; я сказал себе, что все кончено, кончено безвозвратно, и вошел в дом госпожи Сейсак, как переступают порог тюрьмы.
То был просторный дом, стоявший в квартале, если не самом пустынном, то, уж во всяком случае, самом чинном и по соседству с монастырями, – дом с крохотным садиком, который зарастал мхами в тени за высокими стенами ограды: с большими комнатами без воздуха и света: с гулкими передними; с винтовой каменной лестницей, которая вилась в темной клетке; и слишком малолюдный, чтобы быть оживленным. Здесь веяло холодом старинных нравов и чопорностью нравов провинциальных, верностью обычаям, властью этикета, достатком, покоем налаженной жизни и скукой. Из окон самого верхнего этажа виден был город: законченные крыши, монастырские строения и колокольни. На этом этаже была моя комната.
В первую ночь я спал дурно, вернее, почти не спал. Раз в полчаса, а может быть, и вдвое чаще слышался бой всех часов в доме, и у каждых был свой собственный тембр, непохожий на сельский звон вильнёвских часов, которые так легко было узнать по сиплому призвуку. На улице гулко отдавались шаги. Какой-то скрежет, как будто поблизости что было мочи гремели трещоткой, тревожил это особое городское безмолвие, когда все звуки словно уснули, и я слышал странный голос, мужской, медлительный, размеренный, немного певучий; этот голос возвещал, повышаясь от слога к слогу: «Час ночи, два часа ночи, три часа ночи, пробило три часа ночи».
На рассвете ко мне вошел Огюстен.
– Я хотел бы, – сказал он, – отвести вас в коллеж и, представив директору, изложить мое мнение о вас, самое лестное. От подобной рекомендации не было бы толку, – прибавил он скромно, – если бы она не адресовалась человеку, который в свое время оказал мне честь своим доверием и, по-видимому, ценил мое усердие.
Читать дальше