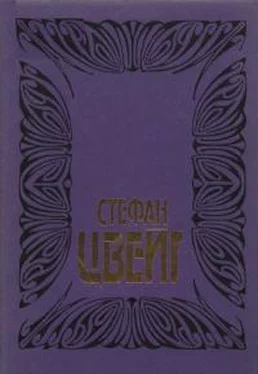И они ждут всю ночь. Тщетно! Известий нет, словно армия забыла о них; они бессмысленно стоят здесь, в непроницаемом мраке. Утром они срываются с бивуака и снова пускаются в поход, смертельно усталые и уверенные, что их маневрирование и передвижение потеряли всякий смысл. И вот, наконец, в десять часов утра примчался офицер из главного штаба. Они помогают ему сойти с лошади, забрасывают его вопросами. Но с лицом, искаженным от страха, с мокрыми у висков волосами, дрожа от сверхчеловеческого напряжения, он бормочет лишь невнятные слова, слова, которых они не могут или не хотят понять. Они принимают его за сумасшедшего, за пьяного, ибо он заявляет, что нет более императора, нет императорской армии, Франция погибла. Но постепенно они начинают понимать истину, воспринимают убийственную, смертельно ранящую весть.
Груши, бледный, дрожащий, опирается на саблю; он знает, что теперь начнется для него жизнь мученика. Но со всей решимостью берет он на себя тяжесть вины. Подначальный, нерешительный, подчиняющийся, он оказался не на высоте в роковую минуту, но теперь, бок о бок с неотвратимой опасностью, он становится мужчиной, почти героем. Он тут же собирает всех офицеров и со слезами гнева и печали на глазах — в кратком обращении к ним — оправдывается в своей нерешительности и горько о ней сожалеет. Каждый мог бы его обвинить, утверждать, что был лучшего мнения о нем. Но никто не осмеливается и не желает этого сделать. Они молчат, молчат. Бесконечная печаль сомкнула им уста.
И как раз в этот час, пропустив роковую секунду, Груши показывает — увы, слишком поздно! — всю силу своей воли. Все его добродетели — благоразумие, работоспособность, предусмотрительность и добросовестность — ясно выявляются, с той минуты как он предоставлен себе и не подчиняется предначертанному приказу. Несмотря на пятикратный перевес окружающего его противника, он мастерски выполненным тактическим маневром проводит свои полки, без единого пушечного выстрела, не потеряв ни одного человека, и спасает Франции, империи, остатки ее армии. Но императора нет, некому его поблагодарить; нет и врага, которому он мог бы противопоставить свои полки. Он пришел слишком поздно, и, хотя его и назначают главнокомандующим, пэром Франции и он во всех положениях проявляет мужественность и здравый смысл, — ничто не вернет ему того мгновения, которое сделало его вершителем судьбы и в котором он оказался не на высоте положения.
Так страшно мстит эта великая секунда, — секунда, которая редко предстает смертному, тому, кто призван ошибочно, кто использовать ее не может. Все обыденные добродетели, удовлетворяющие требованиям скромной повседневности, — предусмотрительность, повиновение, усердие, осторожность, — все они беспомощно плавятся в пламени решающей судьбу минуты: только гению открывается она и дает ему бессмертие. Нерешительного она отталкивает с презрением и лишь смелого возносит, как земного Бога, в царство героев.
(Гете на пути из Карлсбада в Веймар. 5 сентября 1823 года)
Пятого сентября 1823 года по шоссе из Карлсбада в Эгер медленно катится дорожный экипаж; утро уже дрожит осенней свежестью, резкий ветер проносится по сжатым полям, но безоблачно синее небо раскинулось над широкими далями. В коляске сидят трое мужчин: великого герцога Саксен-Веймарского тайный советник фон Гете (как его пышно именует карлсбадский список приезжих) и оба его неизменных спутника: Штадель-ман, старый слуга, и Джон, секретарь, чьей рукой впервые нанесены на бумагу почти все гетевские произведения нового столетия. Ни один из них не произносит ни слова, потому что, с тех пор как они покинули Карлсбад, где молодые женщины и девушки с поцелуями и приветствиями обступили отъезжающего, губы стареющего человека ни разу не разомкнулись. Неподвижно сидит он в экипаже, и лишь задумчивый, обращенный в себя взгляд указывает на внутреннее волнение. На первой почтовой станции он сходит; спутники видят, как он торопливо пишет что-то карандашом на случайно подвернувшемся листке, и то же повторяется всю дорогу до Веймара, в пути и на остановках. В Цвотау, едва прибыв, на следующий день — в замке Хартенберг, в Эгере и затем в Песснеке, всюду он первым делом наспех записывает то, что обдумал, сидя в коляске. И дневник только лаконически сообщает: «Работал над стихами» (6 сентября), «В воскресенье продолжал стихи» (7 сентября), «В пути еще раз просмотрел стихи» (12 сентября). В Веймаре, у цели, произведение уже закончено — не что иное, как «Мариенбадская элегия», значительнейшее, задушевнейшее, а потому и любимейшее им стихотворение его старости, его героическое прощание и мужественный почин.
Читать дальше