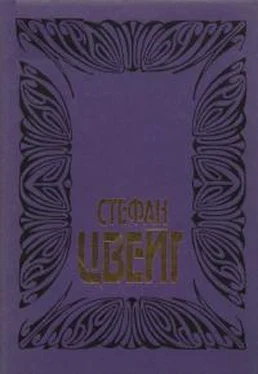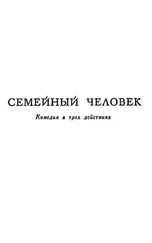Глубочайшего благоговения достоин Толстой, пока он — рожденный бескрылым — пребывает в своем чувственном мире и своими гениальными органами чувств изучает структуру человеческого; но когда он свободным полетом подымается в область метафизики, где его органы чувств уже бессильны, — где они не видят и не обоняют, где эти тонкие щупальца бесцельно блуждают в пустоте, — его духовная беспомощность внушает страх. Нет, тут нужно строгое разграничение: Толстой, как теоретический, систематический философ, был столь же досадным явлением самообмана, как Ницше — его антипод — в роли композитора. Так же, как музыкальность Ницше, изумительно плодотворная в мелодике речи, почти не существует в сфере чистой тональности (т. е. композиторской), так и великий ум Толстого не удовлетворяет, когда он забирается в надчувственные сферы: в сферы теоретические, абстрактные. Можно в каждом произведении отметить эту границу; в его социальном памфлете «Так что же нам делать?» первая часть, например, описывает воспринятые глазами, проверенные опытом квартиры бедноты с таким мастерством, что дух захватывает. Никогда или едва ли когда-нибудь социальная критика гениальнее продемонстрирована на земном явлении, чем в изображении этих комнат нищих и опустившихся людей; но едва, во второй части, утопист Толстой переходит от диагноза к терапии и пытается проповедовать объективные методы исправления, каждое понятие становится туманным, контуры блекнут, мысли, подгоняющие одна другую, спотыкаются. И эта растерянность растет от проблемы к проблеме по мере того, как Толстой все смелее продвигается вперед. И Бог свидетель, он далеко заходит вперед! Без всякой философской подготовки, с ужасающим отсутствием благоговения, он касается в своих трактатах вечных неразрешимых вопросов, носящихся в недосягаемых звездных пространствах, и «растворяет» их легко, как желатин. Ибо так же, как в нетерпении, в период своего кризиса, он хотел быстро, как шубу, накинуть на себя «веру», сделаться в одну ночь смиренным христианином, в этих воспитательных писаниях он заставляет «одним взмахом вырасти лес»: и он, в 1878 году отчаянно вопивший: «Вздор вся наша земная жизнь», — через три года заготовляет для нас свою универсальную теологию, решающую все мировые загадки.
Разумеется, всякое противоречие должно при таких поспешных построениях мешать быстро мыслящему уму, и потому Толстой проповедует, заткнув уши, проносясь мимо непоследовательностей, и с подозрительной поспешностью доставляет себе исчерпывающее решение. Как сомнительна вера, чувствующая себя обязанной беспрерывно «доказывать», как нелогично, невзыскательно мышление, которому при недостатке доказательств всегда вовремя приходит на память библейское изречение в качестве последнего, совершенного, неопровержимого аргумента! Нет, нет, нет, нужно энергично повторить: трактаты Толстого принадлежат (несмотря на несколько несомненно гениальных отдельных утверждений) — к самым неприятным зелотским трактатам мировой литературы, это досадные примеры постепенного, сбивчивого, надменно самодовольного и — у человека столь правдолюбивого, как Толстой, это потрясает — даже нечестного мышления.
И действительно, самый правдолюбивый художник, благородный и примерный моралист, великий и почти святой человек, Толстой играет в роли теоретического мыслителя в скверную и нечестную игру. Чтобы вместить весь необъятный духовный мир в свой философский мешок, он прибегает к грубому фокусу, а именно: сперва упрощает все проблемы, пока они не становятся плоскими и удобными, как карты. Он устанавливает сперва просто «человека», потом «добро», «зло», «грех», «чувственность», «братство», «веру». Потом он весело тасует карты, делает «любовь» козырем и — смотрите, пожалуйста — выигрывает. В один мировой час вся мировая игра, необъятное и неразрушимое, то, что искали миллионы человеческих поколений, решено за письменным столом в Ясной Поляне, и старик изумлен, его глаза по-детски сияют, счастливая улыбка озаряет его старческие губы, он не устает изумляться «до чего все просто». Воистину непонятно, что все философы, все мыслители, которые тысячи лет покоятся в тысячах гробов и тысячах стран, так мучительно напрягали свои умы и не заметили, что вся «истина» уже давно ясно изложена в Евангелии; нужно, правда, предположить, как делает это и он, Лев Николаевич, что в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году по Рождестве Христовом «впервые за тысячу восемьсот лет верно поняли» и, наконец, освободили от маскировки божественную весть. (Действительно, он говорит такие нечестивые слова!) Но теперь конец всем трудам и мучениям, — теперь люди должны познать, как изумительно проста жизнь: все, что мешает, надо просто бросить под стол, просто уничтожить государственность, религию, искусство, культуру, собственность, брак, и этим «зло» и «грех» упраздняются навсегда; и если каждый в отдельности собственной рукой пашет землю, печет хлеб и шьет себе сапоги, тогда нет больше государства и нет религии, — и только царство Божие на земле. Тогда «Бог — любовь и любовь — цель жизни». Итак, долой все книги, не надо больше думать, не нужно духовного творчества, достаточно «любви», и завтра же все может осуществиться, «если люди только захотят».
Читать дальше