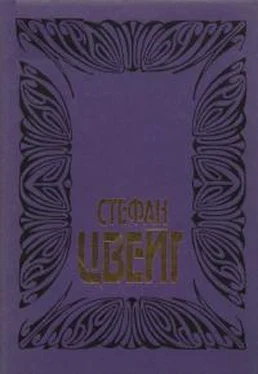Ибо только когда все чувственное установлено с геометрической точностью, закончено физическое изучение, начинает говорить, дышать и жить голем. У Толстого душа, Психея, — божественная бабочка, пойманная в тысячепетельные сети тончайших наблюдений, попавшаяся в паутину из кожи, мускулов и нервов. У Достоевского, — ясновидящего, — его гениального противника, характеристика начинается совершенно противоположным образом: с души. У него душа на первом плане: самовластно она кует свою судьбу; тело свободно и легко, как покров насекомого, облекает ее просвечивающее пламенное зерно. В самые счастливые секунды она может его прожечь и подняться ввысь, взлететь в сферы чувств, в область чистого экстаза. У Толстого, — зорковидящего, — настороженного художника, душа не может подняться ввысь, не может даже свободно дышать, — всегда тело толстой тяжелой корой обволакивает душу, всегда подчиняет ее жестокому закону тяготения. Поэтому и самые окрыленные его создания не могут подняться к Богу, не могут возвыситься над земным и освободиться от мира; они с трудом, как носильщики, шаг за шагом, точно таская на спине собственную тяжесть, задыхаясь, ступень за ступенью, подымаются, чтобы очиститься и освятить-ся, все больше и больше утомляясь от тяжелой ноши и прикованности к земле. Никогда Психея, Божья бабочка, не может непосредственно вернуться в свое платоническое царство; она может только свертываться в куколку и переживать превращения в борьбе за очищение и тяжкое освобождение от законов тяжести, но не может всецело избавиться от тяготения плоти, к которой прикованы все типы Толстого, как к допотопному наследственному греху. Вероятно, часть трагической мрачности Толстого зависит от этого примата, от власти плоти над душой. Ибо этот бескрылый, лишенный юмора художник всегда заставляет нас с болью вспоминать, что мы живем на тесной земле и окружены смертью, что мы не можем бежать и спастись от прикрепленности нашей плоти к земле, что мы окружены media in vita наступающей пустотой. «Я желаю вам больше духовной свободы», — мудро написал однажды Тургенев Толстому. То же самое можно пожелать его образам — немного больше духовного полета, отхода от реальности и плотского, радости, или ясности, или беззаботности, или же, по крайней мере, способности мечтать об этих более чистых, более ярких мирах.
Хотелось бы это назвать осенним искусством: контуры отделяются ярко и остро от ровного горизонта русской степи, и горький запах увядания и тления тянется из бледно-желтых лесов. Не реет заманчиво над землей улыбающееся облако, не выглядывает солнце, и трудно даже догадаться о его присутствии; так и холодный яркий свет Толстого не вливает настоящего тепла в душу: этот равнодушный свет действует совсем иначе, чем свет весенний, всегда вызывающий в душе страстную надежду на скорый расцвет природы и сердец. Ландшафт Толстого всегда осенний: скоро настанет зима, скоро смерть настигнет природу, скоро все люди — и вечный человек внутри нас — окончат свое существование. Мир без мечты, без иллюзий, без лжи, ужасающе пустой мир, мир даже без Бога, — его вводит Толстой в свой космос лишь позже в поисках оправдания смысла жизни, как Кант в поисках смысла государства, — этот мир не имеет иного света, кроме света его неумолимой истины, ничего, кроме ясности, столь же неумолимой. Быть может, у Достоевского душевное царство еще мрачнее, чернее и трагичнее, чем это равномерное холодное освещение, но Достоевский иногда пронзает свою ночную тьму молниями опьяняющего экстаза, на мгновения, по крайней мере, сердца подымаются в небо мечты. Искусство же Толстого не знает опьянения, не знает утешения, оно всегда священно-трезвое, прозрачное, пьянящее не более, чем вода, — во все его глубины можно заглянуть, благодаря этой изумительной прозрачности, но это познание никогда не наполняет душу восторгом и вдохновением. Кто, как Толстой, не умеет мечтать, не умеет подняться над настоящим, кто не знает лирического, торжествующего экстаза красоты, кому он кажется излишним рядом с истиной, тот будет остро ощущать заключенность в собственном теле, участь, тяготеющую над всем земным, но не свободу, благодаря которой душа уносится от ею же созданного мрака. Оно требует серьезности и вдумчивости, как наука со своим каменным светом, своей сверлящей объективностью, но не дает счастья — таково искусство Толстого.
Но как же он, превосходящий всех в познавании, ощущал жестокость и трезвость своей строгой наблюдательности, искусство без благодатного сверкания золотой мечты, без уносящих крыльев радости, без милости музыки? В глубине души он его не любил, потому что оно ни ему, ни другим не дарило ясного, утверждающего смысла жизни. Ибо с убийственной безнадежностью развертывается жизнь перед этим немилосердным зрачком; душа — трепещущий маленький механизм плоти среди обволакивающей тишины тленности, история — бессмысленный хаос случайно нагроможденных фактов, живой человек — бродячий скелет, закутанный на краткий срок в теплый покров жизни, и вся непонятная беспорядочная суета бесцельна, как текущая вода или увядающий лес.
Читать дальше