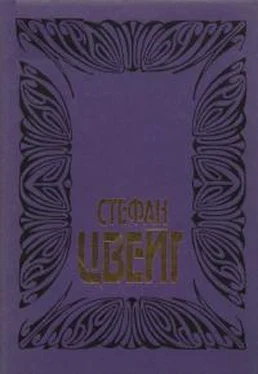Тот, кто обладает таким взором, видит истину; ему подвластны и мир и познание. Но не будет счастлив тот, кто обладает этим вечно правдивым, вечно бодрствующим взором.
ЖИЗНЕННАЯ СИЛА И ЕЕ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ
Я бы хотел долго, очень долго жить, и мысль о смерти наполняет меня детским поэтическим страхом.
Юношеское письмо
Первобытное здоровье. Тело, построенное на столетие. Крепкие кости, развитые мускулы, настоящая медвежья сила: лежа на полу, молодой Толстой одной рукой поднимает на воздух тяжелого солдата. Эластичные сухожилия: без разбега он с легкостью гимнаста перепрыгивает через самый высокий барьер; плавает, как рыба; ездит верхом, как казак; косит, как крестьянин; усталость это железное тело испытывает лишь от духовной работы. Каждый нерв натянут: гибкий и твердый, как толедский клинок, он вместе с тем обладает максимальной способностью вибрации; все органы чувств полнозвучны и проворны. Нигде нет пробела, недостатка, трещины, недочета, дефекта в периферии жизненной силы, и благодаря этому серьезной болезни никогда не удается проникнуть в его каменное тело: неимоверная физическая сила Толстого остается защищенной от всяких признаков слабости, замурованной от старости.
Беспримерная жизненная сила; все художники нового времени рядом с этой шумнобородой, библейски дикой мужицкой мужественностью представляются женственными и изнеженными. Даже те, кто творили столь же долго, даже у них утонченно старится тело, изнемогающее под тяжестью пламенного охотничьего духа. Гете (родившийся под одной звездой с ним — в тот же день — 28 августа и также закончивший свой творческий путь на восемьдесят третьем году жизни), Гете, в шестьдесят лет уже ожиревший, прячется от зимы за боязливо закрытыми окнами. Вольтер окостенел, исписывая за своим бюро бесконечные листы бумаги; он больше похож на чучело злой птицы, чем на человека. Кант — механизированная мумия — напряженно, с трудом тащится по своей Кенигсбергской аллее; в противовес им Толстой, пышущий здоровьем старец, отфыркиваясь, окунает раскрасневшееся от мороза тело в ледяную воду, работает в саду и быстро носится за мячами, играя в теннис. В шестьдесят семь лет он хочет научиться ездить на велосипеде, в семьдесят он носится на коньках по зеркальному катку, в восемьдесят ежедневно тренирует мускулы гимнастическими упражнениями и в восемьдесят два года, на вершок от смерти, — он свистящим кнутом стегает свою кобылу, когда она останавливается или упрямится после двадцативерстного пробега диким галопом. Нет, бросим сравнения: девятнадцатый век не знает другого примера такой сопротивляемости жизненной силы.
Уже тянется к небу глубочайшей старости вершина, и все еще не подточен ни один корень этого пропитанного соком до последней жилки, гигантского русского дуба. Острое зрение сохраняется до смертного часа; во время прогулки верхом его любопытный взор следит за мельчайшим жуком, выползающим из коры, невооруженным глазом следит он за полетом сокола. Ясный слух, впитывающие наслаждение широкие, почти животные ноздри: какое-то опьянение охватывает седобородого пилигрима каждую весну, когда до него доносится острый запах удобрения, соединенный с благовонием оттаивающей земли; он отчетливо вспоминает восемьдесят былых весен, восстанавливая в памяти каждую из них в отдельности с ее постепенным нарастанием; с такой потрясающей силой он ощущает этот единый наплыв ароматов, что глаза вдруг наполняются слезами. Тяжело ступают по мокрой земле в увесистых мужицких сапогах жилистые охотничьи ноги старца, никогда не ослабевает в старческом дрожании рука, буквы его прощального письма не отличаются от больших детских букв почерка мальчугана. И великолепным, непоколебимым — как его сухожилия и нервы — остается его ум: по-прежнему искрится его речь, острая память хранит каждую померкшую деталь. Ничто не теряется в этой памяти, никакое напряжение не обессиливает, не стирает его о жесткую терку времени, по-прежнему хмурятся гневно брови при каждом возражении, смех по-прежнему срывается с его уст, по-прежнему формируется в образы его речь, по-прежнему бушует волнующаяся кровь. Когда семидесятилетнему старику кто-то при обсуждении «Крейцеровой сонаты» бросил упрек, что в его возрасте нетрудно отрекаться от чувственности, глаза старца сверкнули гордо и гневно; это неверно, «плоть еще сильна, она заставляет меня бороться и пересиливать ее».
Читать дальше