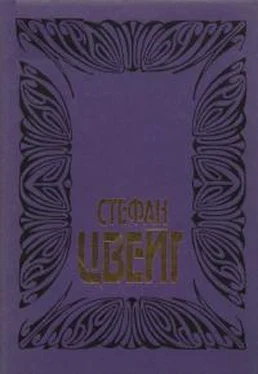Но он сказал лучше и искреннее: «pour paraitre sec» — казаться безучастным, ибо нужно иметь очень уж нетонкий слух, чтобы это нарочитое «secco»* обмануло относительно эмоционального соучастия писателя. Кто-кто из романистов, только уж не Стендаль был в своем повествовании холоден, он, патетик из патетиков! На самом деле, с той безнадежностью, с которой он в своей личной жизни противился «de laisser deviner ses sentiments» — выдавать свои чувства, пытается он и в своих произведениях стыдливо скрывать свое волнение за ровным и бесстрастным тоном. Публичная исповедь чувства отвратительна этому поклоннику такта, этому сверхвпечатлительному человеку, как выставленная напоказ зияющая рана; его замкнутая душа отвергает всякий участливый трепет, подступающие к горлу слезы, шатобриановский «ton dlclamatoire», актерскую напыщенность, перекочевавшую из театра в литературу. Нет, лучше казаться жестким, чем слезливым, лучше безыскусственность, чем пафос, лучше уж логика, чем лирика! Он и пустил в оборот набившие в дальнейшем оскомину слова — что каждое утро перед работой он читает свод гражданских законов, насильно приучая себя к его сухому и деловому стилю. Но при этом Стендаль вовсе не рассматривал сухость, как свой идеал; на самом деле за этим «amour exaglrl de la logique», за любимой своей прозрачностью он искал единственно стиля незаметного, который словно улетучивается, создав представление: «Стиль, как прозрачный лак, не должен изменять окраски, т. е. действия и мысли, им прикрываемые». Слово не должно выпирать лирически, при помощи затейливых колоратур, «fiorituri» итальянской оперы, на первый план; наоборот, оно должно исчезать за предметностью, оно должно, как хорошо скроенный костюм джентльмена, не бросаться в глаза и лишь точно выражать движения души. Ибо точность
•Сухо (фр.).
для Стендаля дороже всего; его галльский инстинкт ясности ненавидит все расплывчатое, затуманенное, патетическое, напыщенное, раздутое, и прежде всего тот самоуслаждающийся сентиментализм, который Жан-Жак Руссо перетащил во французскую литературу. Он хочет ясности и правды даже в самом смятенном чувстве, добивается света для самых затененных уголков сердца. «Еспге» — писать — значит для него «anatomiser», т. е. разлагать сложное ощущение на его составные части, устанавливать градусы жара, клинически наблюдать страсть, как некую болезнь. Ибо в искусстве, как и в жизни, все запутанное бесплодно. Кто опьяняет сам себя грезами, кто с закрытыми глазами бросается в свое собственное чувство, тот, в очаровании услады, упускает высшую, духовную форму наслаждения — познания в наслаждении; только тот, кто точно мерит свою глубину, мужественно и во всей полноте ею наслаждается; только тот, кто наблюдает свою смятенность, познал красоту собственного чувства. Поэтому охотнее всего упражняется Стендаль в старой персидской добродетели — осмысливать ясным умом то, о чем поведало, в своем опьянении, восторженное сердце; душой преданнейший слуга своей страсти, он, по рассудку, ее постоянный господин.
Познать свое сердце, придать новое очарование тайне своей страстности, разумом измеряя ее глубины, — вот формула Стендаля. И так же точно, как он, чувствуют и его духовные чада, его герои. И они не хотят поддаться обману, позволить слепому чувству увлечь себя в неизвестность; они хотят быть настороже, наблюдать это чувство, исследовать его, анализировать, они хотят не только чувствовать свои чувства, но одновременно и понимать. Ни одна фаза, ни одно изменение не должны скрыться от их бдительности; непрестанно проверяют они себя: подлинно ли данное ощущение или ложно, не кроется ли за ним другое, еще более глубокое. Когда они любят, они время от времени переводят двигатель своей страсти на холостой ход и следят по стрелке за числом атмосфер, давлению которых они подвержены, статистики своего собственного сердца, трезво мыслящие, чуждые сентиментальности исследователи своих чувств. Неустанно спрашивают они себя: «Полюбил я уже ее? Люблю ли ее еще? Что чувствую я в этом ощущении и почему не чувствую больше? Искренне ли мое влечение или надуманно? Может быть, я сам себе внушаю чувство к ней или, может быть, просто разыгрываю что-то?» Неустанно держат они руку на пульсе своей возбужденности, сразу замечая, если хоть на мгновение кривая сердечного жара оборвется; их бдительность беспощадно контролирует их самозабвение, с механической точностью учитывают они расход своего чувства. Даже в моменты самых увлекательных переживаний торопливый ход повествования прерывается этими «подумал он», «сказал он сам себе»; для всякого движения, для всякого нервного толчка ищут они, как физики или физиологи, рассудочных объяснений.
Читать дальше