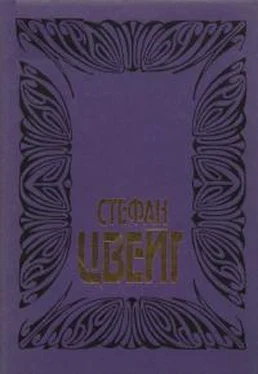Годами пытался он — глупо и без всякого результата! — пересилить свою природу, подражать шумной и хвастливой черни и впутывался в глупейшие героические истории, чтобы только казаться похожим на этих бойких парней и произвести на них впечатление. Лишь постепенно, с трудом находит он в своей неизлечимой отчужденности какое-то меланхолическое очарование. Крайне неудачливый у женщин, благодаря своей робости и неуместным припадкам целомудрия, он начинает, со свойственными ему вниманием и остротой, допытываться у самого себя о причинах своего неуспеха; в нем пробуждается психолог. Почувствовав любопытство к самому себе, он начинает делать относительно себя открытия. Прежде всего Стендаль устанавливает, что он не такой, как другие: тоньше, чувствительнее, проникновеннее. Никто кругом не чувствует так страстно, никто так четко не мыслит, никто не создан так своеобразно, что, воспринимая все до тонкости, не способен вместе с тем добиться на практике самых ничтожных результатов. Несомненно, должны существовать и другие люди этой замечательной разновидности, «высшие существа», ибо как мог бы он понимать Монтеня, острый, глубокий ум, чуждый всему плоскому и грубому, если бы не был той же породы; как мог бы он чувствовать Моцарта, если бы та же душевная легкость не владела ими обоими. И вот в тридцать лет Стендаль впервые начинает подозревать, что он вовсе не неудачный экземпляр человеческой породы, а, скорее, экземпляр особый, родственный, может быть, редкой и благородной расе тех привилегированных существ, которые встречаются во всех странах, у всех народов, вкрапленные в них, как благородные камни в простую породу. Он чувствует себя их соотечественником (общность с французами он отвергает, как ставшее чересчур тесным платье), разделяющим другую, незримую родину с людьми с гораздо более тонкой душой и нервной системой, которые никогда не собираются в бесформенные толпы или деловые шайки и лишь время от времени посылают эпохе своего полномочного представителя. Для них одних, для «happy few» 62 62 Счастливое меньшинство (англ.).
, для проникновенных знатоков жизни с острым взором и тонким слухом, которые прочтут и неподчеркнутое и инстинктом сердца понимают всякий знак и всякое мгновение, для них пишет он, через головы своих современников, свои книги, им одним открывает он тайнопись своего чувства. С тех пор как он научился презрению, какое ему дело до шумной, громкоголосой черни, которой в глаза бросаются только яркие, грубо намалеванные плакаты, которой по вкусу только жирное и пересоленное? «Que m’importent les autres?» — какое мне дело до других, гордо говорит его Жюльен, но это крик его собственного сердца. Нет, не стыдиться того, что не имеешь успеха в таком подлом и пошлом мире, у этих тяжеловесов и тяжелодумов; нужно быть на одном уровне, чтобы соответствовать этому сброду, но, слава Богу, ты существо высшее, ты единственный, особенный индивидуум, дифференцированная личность, а не баран из стада. Все внешние унижения — служебные тернии, неудачи у женщин, полнейший неуспех в литературе — Стендаль, после этого открытия, воспринимает с каким-то изощренным торжеством, как признак своего превосходства. Прежнее чувство приниженности победно переходит в надменность, тонко проявляемую и заметную только для посвященных, величественно-безмятежную стендалевскую надменность. Сознательно он отдаляется теперь все больше и больше от тесного общения с людьми и занят только одной мыслью — «de travailler son caractere», выработать себе определенный характер, свою собственную душевную организацию. Только своеобразие имеет ценность в этом американизированном, тейло-ризованном мире, «il n’y a pas d’intdressant que се qui est un peu extraordinaire» — так будем своеобразны, укрепим в себе корень самобытности! Ни один голландец, из числа помешанных на тюльпанах, бережнее не лелеял редкой, путем скрещивания полученной породы, чем Стендаль свое своеобразие и свою двойственность; он обрабатывает их своей особой духовной эссенцией, которую называет «бейлизмом», т. е. философией, равнозначной искусству сохранения в Анри Бейле того же Анри Бейля неприкосновенным.
Он отгораживается колючим плетнем своеобразия и всяческих мистификаций, охраняет сокровищницу своего «я» с фанатизмом скряги и едва-едва позволяет кому-либо из друзей бросить беглый взгляд через окно и решетку во внутренние свои покои. Только для того, чтобы прочнее уединиться от всех других, он вступает в сознательную оппозицию своей эпохе и, как его Жюльен, живет в войне со всем обществом. В области поэзии он презирает высокую форму и объявляет свод гражданских законов образцом «artis poeticae» 63 63 Поэтического искусства (фр.).
, в качестве солдата глумится над войной, как политик иронически относится к истории, как француз издевается над французами; везде и всюду отгораживается он от людей окопами и колючей проволокой, только чтобы они не подошли к нему на слишком близкое расстояние. Само собой понятно, что на этом пути ему приходится отказаться от всякой карьеры, от успеха на военном, дипломатическом, литературном поприще, но это только усиливает его гордость: «Я не баран из стада, стало быть, я, — ничто»; да, только бы быть ничем для этих плебейских душ, остаться ничем для этих ничтожеств. Он счастлив, что не подходит ни к каким их классам, расам, сословиям, отечествам; он в восторге, что на собственных своих двух ногах, двуногим парадоксом, может шествовать собственным путем, вместо того чтобы широкой дорогой удачи топать среди этого подъяремного, рабочего скота. Лучше отстать, лучше стоять в стороне одному, только бы остаться свободным.
Читать дальше