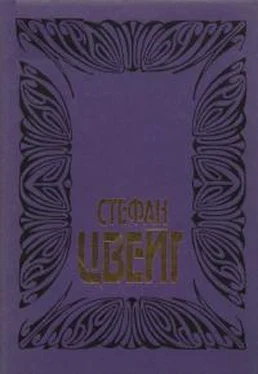Восемь дней! С тех пор как Кондор ограничил выполнение моей задачи определенным сроком, я вновь почувствовал уверенность в себе. Я боялся только одного часа, одной минуты — той, когда мне придется встретиться с Эдит в первый раз после ее признания. Я знал, что после того, что между нами произошло, прежняя непринужденность уже невозможна, — первый взгляд после того жгучего поцелуя должен заключать в себе вопрос: простил ли ты меня? — и, возможно, даже более опасный: позволишь ли ты мне любить тебя, ответишь ли ты мне на мою любовь? Этот первый взгляд сквозь краску стыда, взгляд скрытого, но неудержимого нетерпения, мог — я отчетливо сознавал это — оказаться самым опасным и вместе с тем решающим. Одно неловкое слово, один фальшивый жест — и сразу же станет явным то, что должно оставаться тайным, а это значит, что свершится непоправимое, грубое и оскорбительное, против чего меня так настойчиво предостерегал Кондор. Но стоит мне выдержать этот взгляд, и я спасен, а может быть, навсегда спасена и Эдит.
Едва я на следующий день переступил порог усадьбы, как мне стало ясно, что Эдит, которую те же самые опасения сделали предусмотрительной, приняла необходимые меры, чтобы не встретиться со мною с глазу на глаз. Уже в вестибюле я услышал звонкие голоса нескольких женщин, болтавших между собой; очевидно, она, на те часы, когда наше общество обычно не нарушалось приходом гостей, пригласила знакомых, чтобы с их помощью пережить критический момент.
Не успел я войти в гостиную, как навстречу мне — то ли следуя инструкциям Эдит, толи по собственному побуждению — с наигранной веселостью устремилась Илона. Она представила меня супруге окружного начальника и ее дочери — веснушчатому дерзкому созданию (которую, кстати, Эдит терпеть не могла), а затем подтолкнула к столу: благодаря этому все сошло незаметно. Мы пили чай и болтали. Я с жаром втолковывал что-то задорному веснушчатому провинциальному гусенку, в то время как Эдит беседовала с ее матерью. Такое, отнюдь не случайное, размещение гостей ослабило двумя изолирующими прослойками незримый контакт между мной и Эдит, я получил возможность не смотреть в ее сторону, хотя временами ощущал на себе ее тревожный взгляд. И даже когда гостьи наконец поднялись, сообразительная Илона тут же нашла выход.
— Я только провожу дам. Вы пока можете начать вашу партию в шахматы. Потом мне еще нужно будет сделать кое-какие приготовления к отъезду, но через час я вернусь.
— Хотите сыграть? — спросил я Эдит вполне непринужденно, в то время как гости выходили из комнаты.
— С удовольствием, — ответила она, опустив глаза.
Эдит смотрела вниз, пока я ставил доску и тщательно, чтобы выиграть время, расставлял фигуры. По старому правилу, чтобы решить, кому начинать, мы обычно прятали за спиной черную и белую фигуры. Но сейчас такой прием заставил бы нас заговорить, произнести хотя бы одно слово: «в правой» или «в левой»; даже этого мы оба постарались избежать, и я сразу расставил фигуры. Лишь бы не разговаривать! Запереть все мысли в квадрат из шестидесяти четырех клеток! Не отрываясь смотреть только на фигуры, не глядеть даже на пальцы, которые их передвигают! Мы притворялись, что увлечены игрой, как самые заядлые шахматисты, забывающие во время игры обо всем на свете.
Но вскоре сама игра обнаружила наше притворство. В третьей партии Эдит окончательно спасовала. Она делала неверные ходы, дрожь ее пальцев ясно говорила, что ей не выдержать этого неестественного молчания. Посреди игры она отодвинула доску.
— Хватит! Дайте мне сигарету!
Я вынул из гравированного серебряного портсигара сигарету и услужливо зажег спичку. Когда вспыхнул огонек, я не мог не взглянуть Эдит в глаза. Их застывший взгляд не был направлен ни на меня, ни на какой-либо определенный предмет; словно замороженные ледяным гневом, они выжидали, отчужденно и неподвижно, а над ними напряженно вздрагивали дуги бровей. Я сразу понял — это знак, предвещающий грозу.
— Не надо! — произнес я, не на шутку испугавшись. — Пожалуйста, не надо!
Но она откинулась на спинку кресла. Я видел, как дрожь пробегала по всему ее телу и пальцы все глубже впивались в подлокотники.
— Не надо! Не надо! — еще раз попросил я. Кроме этих умоляющих слов, мне ничего не приходило в голову. Но плотина, сдерживавшая рыдания, уже прорвалась. Это были не бурные, громкие рыдания, а — что еще страшней — тихий, надрывающий душу плач с закушенной губой, плач, который стыдится самого себя, но который невозможно унять.
Читать дальше