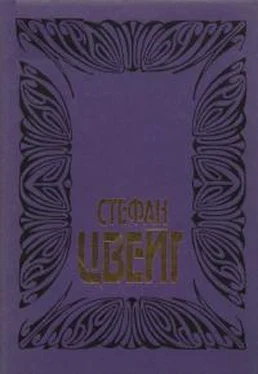Не могу описать, что творилось у меня на душе, пока я стоял перед домом. Музыка за ярко освещенными окнами умолкла, музыканты, по-видимому, сделали перерыв. Но я, мучительно переживая свою вину, уже вообразил сгоряча, что танцы прервались из-за меня и все гости, мужчины и женщины, устремились к обиженной и утешают ее, дружно возмущаясь негодяем, который пригласил на танец хромого ребенка и трусливо сбежал после гнусного поступка. А завтра — я почувствовал, как вспотел лоб под фуражкой, — завтра о моем позоре узнает и будет судачить весь город. Уж обыватели постараются, перемоют мне косточки! Мне рисовалось, как мои товарищи по полку, Ференц Мысливец и, конечно, Йожи, этот заядлый остряк, предвкушая удовольствие, скажут в один голос: «Ну, Тони, и отмочил же ты штуку! Стоило один-единственный раз спустить тебя с привязи — и готово, опозорил весь полк!» Месяцами будет продолжаться зубоскальство в офицерском казино: ведь у нас по десять, по двадцать лет пережевывают за столом каждый промах, когда-либо допущенный кем-нибудь из офицеров, всякое идиотство у нас увековечивается, всякой шутке воздвигают памятник. Еще и поныне, шестнадцать лет спустя, в полку рассказывают нелепую историю, случившуюся с ротмистром Волынским. Возвратившись из Вены, он прихвастнул, будто познакомился на Рингштрассе с графиней Т. и первую же ночь провел в ее спальне; а через два дня все узнали из газет о скандальном происшествии с уволенной ею служанкой, которая выдавала себя за графиню в своих аферах и любовных интрижках. Помимо всего, новоявленный Казанова был вынужден пройти трехнедельный курс лечения у полкового врача. Кто хоть однажды попал в дурацкое положение, остается навсегда посмешищем, ему этого не забудут, здесь уж пощады не жди. И чем сильнее я распалял свое воображение, тем больше сумасбродных мыслей лезло мне в голову. В те минуты мне казалось, что в сто раз легче нажать спусковой крючок револьвера, чем целыми днями испытывать адские муки беспомощного ожидания: известно ли уже однополчанам о моем позоре, и не раздается ли за моей спиной насмешливый шепот? Ах, я слишком хорошо знал себя, знал, что у меня никогда не хватит сил устоять, если я сделаюсь мишенью для насмешек и дам повод злословию!
Как я тогда добрался до казармы, мне и самому непонятно. Помнится только, первым делом я распахнул шкаф, где специально для гостей держал бутылку сливовицы, и выпил два-три неполных стакана, стараясь заглушить противное ощущение тошноты. Затем я, как был в одежде, бросился на кровать и попытался хорошенько обо всем поразмыслить. Но, подобно цветам, пышно распускающимся в душной теплице, навязчивые представления буйно разрастаются в темноте. Фантастически запутанные, они раскаленными прутьями обвивают тебя и душат; с быстротою сновидений в разгоряченном мозгу возникают, сменяя друг друга, чудовищные кошмары. Опозорен на всю жизнь, думал я, изгнан из общества, осмеян товарищами, знакомыми, всем городом. Никогда уже не смогу я покинуть эту комнату, не осмелюсь выйти на улицу из страха повстречать кого-либо из тех, кто знает о моем преступлении (ибо в ту ночь, когда я испытал первую душевную тревогу, моя оплошность представлялась мне преступной, а сам я казался себе гонимым и затравленным всеобщими насмешками). Наконец я забылся неглубоким, поверхностным сном, но лихорадка кошмаров продолжалась и во сне. Едва я раскрываю глаза, как снова вижу разгневанное детское лицо, дрожащие губы, судорожно вцепившиеся в край стола руки, слышу стук падающих деревяшек, только теперь поняв, что то были ее костыли, и мне, охваченному безумным страхом, мерещится, что открывается дверь и ее отец — черный сюртук, белая манишка, золотые очки, жидкая козлиная бородка — подходит к моей кровати. В страхе вскакиваю я с постели. И пока я глазею в зеркало на свое вспотевшее от страха лицо, меня обуревает желание дать по морде болвану, который смотрит на меня.
Однако, на мое счастье, уже наступил день; в коридоре громыхают тяжелые шаги, внизу на мостовой тарахтят повозки. А когда в окнах светло, мысли проясняются быстрее, чем в зловещем мраке, где рождаются привидения. Быть может, говорю я себе, дело обстоит не так уж безнадежно? Быть может, никто ничего и не заметил? Она-то, конечно, никогда этого не забудет и не простит, бедная хромоножка! И вдругв моем мозгу молнией вспыхивает спасительная мысль. Я поспешно причесываюсь, надеваю мундир и пробегаю мимо озадаченного денщика, который в отчаянии кричит мне вслед на своем ужасном немецком языке с гуцульским акцентом:
Читать дальше