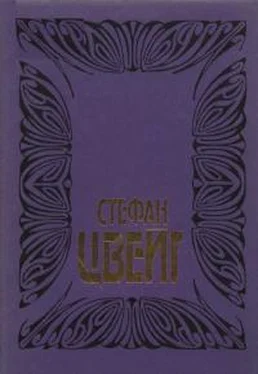На всякий случай она исподволь составляет свой собственный план. Раз уж нельзя ни лаской, ни мольбами отвлечь упрямого мальчишку от его скандального замысла, значит, она должна добиться этого хитростью и упорством. Нужно заморить его голодом. Пускай почувствует, как удобно ему жилось под отчим кровом и как тепло ему было в уютной нотариальной конторе. Когда у него подведет живот, он откажется от своего хвастовства и прожектерства. Пусть только отморозит пальцы в своей мансарде — живехонько бросит тогда свою дурацкую писанину. И мать заявляет, что должна позаботиться о его удобствах; она сопровождает его в столицу, чтобы снять для него комнату. В действительности же, чтобы сломить сопротивление сына, она совершенно умышленно выбирает для будущего писателя самую скверную, самую жалкую и неуютную каморку, какую только можно сыскать в пролетарских кварталах Парижа.
Этот дом под номером 9 на улице Ледигьер давно снесен, и это крайне огорчительно. Ибо в Париже, хотя в нем и находится гробница Наполеона, нет более великолепного памятника, чем убогая каморка на чердаке, описание которой мы находим в «Шагреневой коже». Зловонная черная лестница ведет на пятый этаж к развалившейся входной двери, сколоченной из нетесаных досок. Распахнув ее, посетители входят в низкую и темную берлогу, ледяную — зимой, раскаленную, как солнце, — летом. Даже за ничтожную плату, за пять франков в месяц (три су в день), хозяйка не нашла никого, кто пожелал бы поселиться в этой норе. И как раз «дыру, достойную венецианских свинцовых камер» выбирает мать, чтобы вызвать у будущего писателя отвращение к его ремеслу.
«Не могло быть ничего более омерзительного, — пишет Бальзак много лет спустя, — чем эта мансарда, с желтыми грязными стенами, пропахшими нищетой… Крутой скат косого потолка… сквозь расшатанную черепицу просвечивало небо… Комната стоила мне три су в день, за ночь я сжигал на три су масла, уборку делал сам, рубашки носил фланелевые, потому что не мог платить прачке два су в день. Комнату отапливал я каменным углем, стоимость которого, если разделить ее на число дней в году, никогда не превышала двух су… Все это в общей сложности составляло восемнадцать су, два су мне оставалось на непредвиденные расходы. Я не припомню, чтобы за этот долгий период работы я хоть раз прошелся по мосту Искусств или же купил у водовоза воды: я ходил за ней по утрам к фонтану на площади Сен-Мишель. В течение первых десяти месяцев моего монашеского одиночества я пребывал так — в бедности и уединении; я был одновременно своим господином и слугой, я жил с неописуемой страстью жизнью Диогена».
С расчетливой предусмотрительностью отказывается мать Бальзака от малейших попыток сделать эту тюремную камеру уютной, придать ей более жилой вид — чем скорее неуютность заставит ее сына вернуться к добропорядочной профессии, тем лучше. Чтобы обставить мансарду, Бальзаку дают только самое необходимое. Это печальные отбросы семейной мебели — узкая жесткая кровать, «похожая на жалкие козлы», скрипучий дубовый стол, обтянутый потрескавшейся кожей, и два колченогих стула. Вот и все — кровать для спанья, стол для работы и стулья, чтобы сидеть. Скромное желание Оноре взять напрокат маленькое фортепьяно семейство отвергает. И спустя несколько дней ему уже приходится клянчить у матери «белые бумажные чулки, серые вязаные чулки и полотенце».
Как только он, желая немного оживить унылые стены, раздобыл себе «гравюру» и квадратное зеркало в золоченой оправе, неумолимая мамаша Бальзак сурово замечает дочери Лауре, что-де она, Лаура, должна сделать братцу выговор за подобное «мотовство».
Но фантазия Бальзака в тысячу раз могущественней реальности. Взор его способен украсить самое неприглядное, возвысить самое уродливое. Он сумел найти утешение даже в своей унылой тюремной камере над морем серых парижских кровель.
«Помню, как весело, бывало, завтракал я хлебом с молоком, вдыхая воздух у открытого окна, откуда открывался вид на крыши, бурые, сероватые и красные, шиферные и черепичные, поросшие желтым и зеленым мохом. Вначале этот пейзаж казался мне скучным, но вскоре я обнаружил в нем своеобразную прелесть. По вечерам полосы света, пробивавшегося сквозь неплотно прикрытые ставни, оттеняли и оживляли темную бездну этого своеобразного мира. Порой сквозь туман бледные лучи фонарей, светившие вдоль улиц, бросали снизу свой желтоватый свет и слабо обозначали извилистую линию скученных крыш, океан неподвижных волн. Иногда в этой мрачной пустыне появлялись и редкие фигуры: среди цветов какого-нибудь воздушного садика я различал угловатый, загнутый крючком профиль старухи, поливавшей настурции; иногда, стоя у чердачного окна, молодая девушка, не подозревая, что на нее смотрят, занималась своим туалетом, и я видел только прекрасный лоб и длинные волосы, приподнятые красивой белой рукой. Я любовался хилой растительностью в водосточных желобах, бледными травинками, которые скоро уносил ливень. Я изучал, как мох становился ярким после дождя или, высыхая на солнце, превращался в сухой бурый бархат с причудливыми отливами. Словом, поэтические и мимолетные эффекты дневного света, печаль туманов, внезапно появляющиеся солнечные пятна, волшебная тишина ночи, рождение утренней зари, султаны дыма над трубами — все явления этой необычайной природы стали для меня привычны, они развлекали меня. Я любил свою тюрьму — ведь я находился в ней по доброй воле. Эта парижская пустынная степь, образуемая крышами, похожая на голую равнину, но таящая под собою населенные бездны, подходила к моей душе и гармонировала с моими мыслями» («Шагреневая кожа»).
Читать дальше