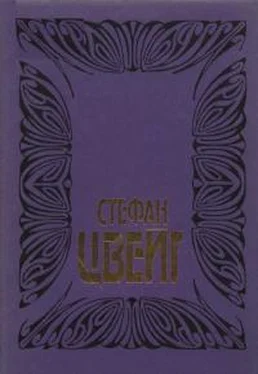Магически изливается в чистых, возвышенных формах все, к чему он стремился, что пытался осуществить, — укрощенное чувством последней связи с миром и примирения. Все страсти, владевшие им тридцать лет, внезапно влились в образы, — уже не самовластно преувеличенные, а проясненные. Бешеное честолюбие Гискара превратилось в чистую, действенную пламенность юного героя, принца Гомбургско-го, зверский, кровожадный, бряцающий оружием варварский патриотизм «Битвы Арминия» смягчен до безмолвно, строгого чувства отечества; сварливость и правовое упрямство Коль-гаса очеловечены в образе курфюрста до сознательной защиты закона; ведовство Кетхен лишь голубеет, как нежный лунный свет, над летней сценой в саду, словно овеваемый потусторонним ароматом смерти, а пылкость Пентесилеи, буйная жажда жизни растворяется в тихом томлении. Впервые в произведении Клейста нарастает скрытая нота доброты, дуновение мягкой человечности и понимания, — и эта последняя струна, которой он никогда не касался, серебристой жалобой арфы вторит мрачной мелодии. Здесь нежданно скопилось все, что волнует человека, и как перед взором умирающего в последние мгновения его жизни проходит все пережитое, так в этом последнем произведении журчит все прошлое, словно примиренное воспоминание о прожитой жизни: все заблуждения, все ошибки, все упущения, все, что казалось бессмысленным и тщетным, вдруг приобретает смысл в этих образах. Философия Канта, терзавшая душу двадцатилетнего юноши, душившая его как «жизненный план», — теперь подает реплики курфюрсту, одухотворяя образ монарха. Кадетские годы, военное воспитание, которому он посылал тысячи проклятий, — вот оно воскресает в великолепной фреске армии, в этом гимне товарищеской солидарности; даже земля Бранденбурга, уже многие годы ему ненавистная, становится фундаментом событий, и в воздухе, обычно не ощущаемом в его трагедиях, чувствуется атмосфера и горизонт. Все, что он преодолел, — традиция, дисциплина, эпоха, — как небо, высится над его произведением; впервые исходит его творчество из внутренней родины, из призвания крови. Впервые разрежен воздух, не мучительно напряжение, свободное от нервного трепета, впервые прозрачно льются стихи, не насилуя, не тесня друг друга, впервые звучит музыка. Мир призраков, обычно пылавший демоническим напряжением глубин, теперь, словно сумерки, витает над земной жизнью; будто сладостный звон последних шекспировских драм, звон веселого познавания и освобождения опускает завесу над гармоническим миром.
«Принц Гомбургский» — самая правдивая драма Клейста, потому что в ней заключена вся его жизнь. Тут сосредоточены все противоречия его существа — любовь к жизни и стремление к смерти, искание меры и чрезмерность, наследие и приобретенное достояние: только здесь, исчерпывая себя, он становится правдивым и выходит за пределы осознанной им правды. Отсюда это веяние пророческой тайны в сцене смерти, хмель самоубийства, страх перед роком — предвосхищенные творчеством часы его смерти и в то же время повторение всей прожитой жизни. Только обреченные на смерть обладают этим высшим познанием, этим двойным зрением, проникающим и в прошлое и в будущее; только «Принц Гомбургский» и «Эмпедокл» среди немецких драм дарят нам эту призрачную музыку, этот плеск беспредельности. Ибо только чистое отречение — достигнуть сфер, где никнет утомленная страсть; то, в чем судьба так упрямо отказывала Клейсту в его алчных и гневных набегах, она дарит ему в тот час, когда он уже ничего не ждет: она дарит ему совершенство.
Все трудное, что в силах человека,
Я сделала, — к безмерному стремилась, Всю жизнь свою поставила я на кон,
И выпала решающая кость,
Должна постигнуть я, — что проиграла!
Пентесилея*
На высшей ступени своего искусства, в год появления «Принца Гамбургского», Клейст роковым образом достиг и высшей ступени своего одиночества. Никогда он не был так забыт миром, так бесцелен в своей эпохе, в своем отечестве: службу он бросил, журнал ему запретили, его заветная мечта — вовлечь Пруссию в войну на стороне Австрии — остается тщетной. Его злейший враг — Наполеон — держит Европу в руках, как покорную добычу, прусский король из вассала Наполеона превращается в его союзника. Пьесы Клейста не имеют успеха и путешествуют из театра в театр, осмеиваются публикой или отклоняются равнодушным директором, его книги не находят издателя, сам он остается не у дел; Гёте от него отвернулся, другие не знают его или не считают достойным внимания, покровители его оставили, приятели забыли; последней покидает его самая верная, некогда «Пиладу подобная» сестра Ульрика. Каждая карта, на которую он ставил, бита, и последнюю оставшуюся у него, самую ценную — рукопись его лучшего произведения, «Принца Фридриха Гамбургского», он уже не может пустить в ход: он уже вне игры, и никто не доверяет его ставке. И тут он пытается, вновь вынырнув на поверхность, после мно-rax месяцев безвестной жизни вернуться в свою семью: еще раз он едет во Франкфурт-на-Одере к своим — освежить душу горсточкой любви, но родные посыпают солью его раны, и желчь струится с их уст. Обеденный час в кругу Клейстов, свысока посматривающих на уволенного чиновника, на обанкротившегося издателя газеты, на неудачного драматурга, видящих в нем недостойного представителя их рода, — этот час лишил его последних сил. «Я готов лучше десять раз умереть, — пишет он в отчаянии, — чем еще раз пережить то, что я испытал во Франкфурте за обеденным столом». Родные его оттолкнули, столкнули в ад, кипящий в его груди; с омраченной душой, пристыженный и униженный, бредет он опять в Берлин. Несколько месяцев он бродит там в стоптанных башмаках, в поношенном костюме, подает в различные ведомства прошения о предоставлении должности, предлагает (тщетно) издателям роман, «Принца Гомбургского», «Битву Арминия», угнетает друзей своим жалким видом; в конце концов он надоел всем, как и ему надоели поиски. «Моя душа так изранена, — жалуется он, — что, когда я высовываю нос из окна, мне кажется, будто дневной свет причиняет мне боль». Его страсти иссякли, силы истощены, надежды разбиты:
Читать дальше